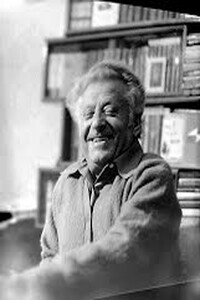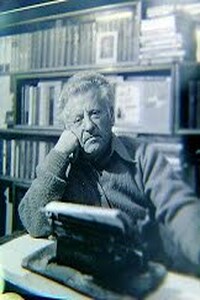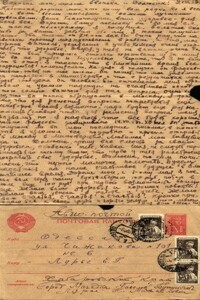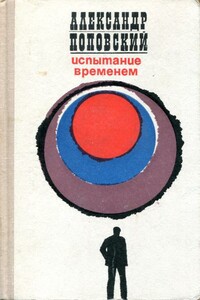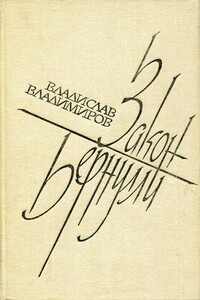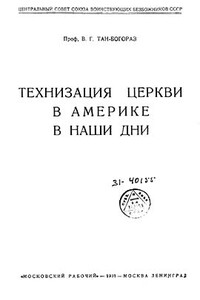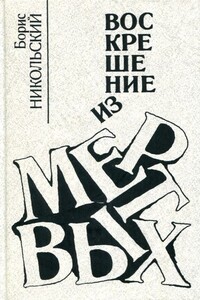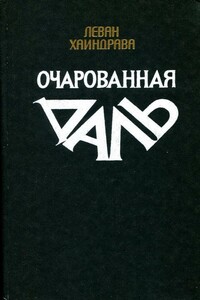Как был с кнутовищем в руках, Хонця вышел за калитку. Ему было невмоготу оставаться одному в своем тесном, заросшем дворе. «Заглянуть, что ли, к Хоме Траскуну. Может, еще не спит…» — подумал Хонця и пошел вверх по улице. Вот Элька его сегодня бранила, упрекала в бездеятельности. Но что мог он сделать, когда их тут всего два коммуниста на всю Бурьяновку, он да Хома, — оправдывался перед собой Хонця. Хутор только оправился после голода, советская власть помогла семенами, ссудами, во дворах замычали коровы, закудахтали куры, — вот хуторянин и держится за свое хозяйство, трясется над своим добром.
Бурьяновка лежала у подножия пологого песчаного холма. Широченная деревенская улица вилась сперва низом, потом вскидывалась на поросший чабрецом бугор на краю хутора и спускалась к выгону. Хонця шел стежкой вдоль палисадников. Ветер поддувал рубаху, подол завернулся, обнажив худое тело.
Около засохшей шелковицы напротив двора Хомы Траскуна он остановился. Здесь, подле этой шелковицы — тогда еще ее ветви были покрыты зеленой листвой — они с Хомой расстреляли махновца, который повесил брата Хомы.
В хате у Траскунов окна не светились. Хонця помедлил, окинул взглядом беленую траскуновскую мазанку, редкий заборчик вокруг двора и побрел к выгону, туда, где глухо ворочались тракторы и мелькали вспышки фар.
«Хома жалуется, что у него нет ребят. Посмотрел бы я на его хату, кабы у него была куча ребятишек, как у других! Только потому чисто и живет. А забор у него плохой, на честном слове держится. И то сказать — что ему этим забором загораживать? Не то что Оксману. У того ограда — так ограда! Доски все крашеные, подогнаны одна к другой. Ему есть что охранять от чужого глаза. Да… Один сорняк — помещиков да махновцев — выпололи, на его месте другой полез, цепкий, колючий…
Три пары лошадей стоят у Оксмана в конюшне, клуня чуть ли не больше общественного амбара, хата крыта черепицей… И ветряк у него. Трое их, три брата в округе, и у каждого по мельнице… И что же, своим трудом они все это нажили? Чужим потом. Кабы не батрацкие руки, и у них тоже ветер гулял бы под крышей. Мало сам я положил сил на оксмановскую землю? Хромоногий Давидка всю жизнь надрывался у старого козла на мельнице, а сейчас тот и сына себе приспособил, Коплдунера. Призрел сироту… Хуторяне бьются из-за куска хлеба, вот Оксман и держит их на коротком поводке…»
Хонця уже перевалил поросший чабрецом бугор на краю хутора и вышел к околице. В стороне, за оградой из сухих кизяков и кукурузных будыльев, притаился дом Юдла Пискуна. Кособокая, наполовину обмазанная глиной хибарка одним узеньким окошком смотрела на хутор, туда, где был красный уголок.
— Принесло еще и это дерьмо сюда! — пробормотал Хонця, покосившись на ограду.
На утоптанной земле выгона Хонця снова остановился. Он все поглядывал единственным глазом в сторону украинского колхоза, откуда доносился рокот машин.
«Уже работают… А наши когда еще выйдут в поле! Расползутся по степи, как муравьи, каждый к своей меже, будут рыться в земле руками, а что толку?»
На днях приезжал сюда секретарь райкома, Микола Степанович Иващенко, с которым они когда-то вместе батрачили в Ковалевске у Филиппа Деревянко, тамошнего богатея. Микола Степанович долго сидел в комнезаме, толковал с ним, а он, Хонця, отвечал ему точь-в-точь как этот бездельник Матус: «Бурьяновка не Ковалевск и не Веселый Кут. Бурьяновке мил ее бурьян, как свинье лужа, она боится нового, как летучая мышь — дневного света. Из кого мне сколотить коллектив? Из горсти старых партизан? Так ведь нет у них ни клячи, ни даже хомута исправного во дворе, хоть бери и впрягайся сам…»
«Эх, Хонця, Хонця! Постарел ты, что ли, ослаб твой революционный огонь? — с горечью выговаривал он себе. — Ведь, бывало, выводил коней из кулацких и помещичьих конюшен, раздавал беднякам, делил землю, умел драться с оружием в руках. Люди слушали тебя, доверяли. А теперь споткнулся. Обижайся не обижайся, а Микола Степанович и Элька Руднер правы: ты действительно опустил руки. Считай, что тут фронт, — и кончено. Или мы, комнезамовцы, или они, кулаки. Пора нам взяться всем вместе, да так, чтобы земля загудела!» И Хонця всем сердцем услышал голос партии, которая призывала перепахивать межи, корчевать древнюю, дикую, заглушённую бурьяном степь.
4
Юдл Пискун всего года два как осел в Бурьяновке.
Прежде он жил в Керменчуке — дальнем греческом селе, держал бакалейную лавку — и барышничал на окрестных украинских и немецких базарах.
Во время революции, когда в селах и на хуторах начались волнения, Юдл Пискун, наскоро распродав все свое добро, однажды ночью скрылся из села, оставив голый, ободранный двор на произвол судьбы. Вместе с беременной женой своей Добой он уехал к ее родителям, в далекое пограничное местечко на западе Украины.
А года два назад, осенью, когда с полей уже свезли пшеницу и овес, ссыпали в затхлые амбары и клети остатки подсолнечных семечек и сложили на чердаки желтые, огромные тыквы, Юдл Пискун и жена его Доба поздней ночью приехали с ближайшего полустанка Просяное сюда, в глухую Бурьяновку.
Поселился он на краю хутора, на склоне поросшего чабрецом бугра. Поставил себе низкую хибарку с крытым двором для скота и постепенно обнес свой двор забором из сухих будыльев и кизяка.