Статус документа: окончательная бумажка или отчужденное свидетельство? - [99]
Именно столкновение (или наложение) различных режимов восприятия я буду дальше иметь в виду, говоря о возможностях взаимодействия литературности и документности. Понятия «фактуального повествования» и «(псевдо)документального жанра» не исчерпывают и даже не отражают многообразия типов такого взаимодействия и, что особенно важно, не проясняют его мотивов. Литературные тексты заимствуют существующие в культуре конфигурации документа вплоть до попыток их имитировать, или размышляют о документе и создают его мифологию, или используют документы в качестве «рабочего материала», или, наконец, сами приобретают статус документов в глазах своих читателей. Эти и другие способы обращения с документом (с культурными представлениями о нем) могут являться частью более или менее продуманной авторской стратегии, но могут и вменяться тексту литературным сообществом, критикой, читателями (чаще, конечно, одновременно происходит и то и другое).
Итак, ниже я намереваюсь рассмотреть, как акцентируется документность, в каких ситуациях она становится «видимой», на примере нескольких литературных событий недавнего времени. Я остановлюсь на двух полярных режимах воспроизводства литературных норм и оценок — «наивное письмо» (aka «человеческий документ») и «большая литература». Метафора человеческого документа, довольно популярная в отечественной литературной критике 2000-х годов, предполагает радикальное отождествление литературности и документности; статус «большой литературы» — умение автора работать с архивными материалами и использовать документ в качестве надежного фундамента для литературного воображения. Моя цель — не просто показать, насколько актуальны подобные представления, но, скорее, выяснить, какие типы социальности сегодня связаны с ними, что та или иная приписываемая документу роль говорит о практикующихся способах чтения, способах литературной адресации, способах коммуникации в пределах и за пределами литературного пространства.
Исходя из убеждения, что границы документного подвижны, но не размыты, я буду прежде всего принимать в расчет следующие тесно связанные между собой функциональные характеристики: документ как «суррогат человека», его репрезентант (в терминах Дэвида Леви[432]), и документ как заменитель практики персонального доверия в тех случаях, когда она по тем или иным причинам оказывается невозможной[433].
«Наивное письмо»: литература как документ
Многообразные значения метафоры человеческого документа могут существенно расходиться, однако имеют общую генеалогию — «экспериментальный роман» натуралистов, проект литературы, аналогичной позитивистскому исследованию[434].
Русская литературная критика периодически проявляла интерес к понятию человеческого документа, преимущественно именно в те периоды, когда под вопросом оказывались собственно литературные конвенции и нормы, разрушались связи внутри института литературы (заметный всплеск популярности «человеческого документа» приходится на 1920–1930-е годы[435], особенно в эмигрантском литературном сообществе и не без влияния пере-открытия сюрреалистами идеи документирования[436]); разумеется, при этом понятию присваивался достаточно широкий диапазон интерпретаций. Одна из наиболее востребованных сегодня трактовок была зафиксирована на языке советского литературоведения в 1970-х годах: Петр Палиевский определяет «человеческий документ» как «невольное искусство», «непреднамеренно всплывшие на поверхность „письмена“, не имевшие художественной цели», в конечном счете — как «литературу без писателя»[437]. Казалось бы, от изначального смысла понятия, введенного натуралистической школой, здесь ничего не осталось — имеется в виду принципиально иной тип текста и, главное, иной тип авторства. Однако Палиевский добавляет: ценность описываемого им явления заключается в том, что «читатель спокойно видит тут в роли художника целое общество или жизнь, сотворившую и автора, и документ»[438]. Другими словами, «человеческий документ» и в этом случае указывает на закрепление за литературой функций объективного «зеркала реальности» и познавательного инструмента, только роль исследователя смещается от инстанции автора к инстанции читателя.
Наталия Козлова и Ирина Сандомирская в своем блестящем анализе «наивного письма» — то есть того типа повествования, который имел в виду Палиевский, — показали, каким образом читатель конструирует литературные характеристики текста, шокирующего своей абсолютной несоизмеримостью с любыми представлениями о норме (не только лингвистической и литературной, но также психологической, а отчасти и социальной). Собственно, эстетическая система координат, навязанная такому тексту (попытка охарактеризовать его как «невольное», «наивное», «неумелое» искусство), оказывается одним из способов справиться с той некомфортной реакцией (смесь «животного удовольствия» и «животного ужаса»), которую он вызывает[439]. Другим способом, по наблюдению Козловой и Сандомирской, будет этическая рамка социальной вины. Занимая по отношению к тексту позицию «интеллигентного читателя», мы начинаем рассматривать его как повествование о «скорбях народных», о преисполненной лишений «простой жизни»: «Текст говорит с читателем голосом его собственной (читателя) совести и сознания»

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Б. Поплавскому, В. Варшавскому, Ю. Фельзену удалось войти в историю эмигрантской литературы 1920–1930-х годов в парадоксальном качестве незамеченных, выпавших из истории писателей. Более чем успешный В. Набоков формально принадлежит тому же «незамеченному поколению». Показывая, как складывался противоречивый образ поколения, на какие стратегии, ценности, социальные механизмы он опирался, автор исследует логику особой коллективной идентичности — негативной и универсальной. Это логика предельных значений («вечность», «смерть», «одиночество») и размытых программ («новизна», «письмо о самом важном», «братство»), декларативной алитературности и желания воссоздать литературу «из ничего».

В книге Ирины Каспэ на очень разном материале исследуются «рубежные», «предельные» смыслы и ценности культуры последних десятилетий социализма (1950–1980-е гг.). Речь идет о том, как поднимались экзистенциальные вопросы, как разрешались кризисы мотивации, целеполагания, страха смерти в посттоталитарном, изоляционистском и декларативно секулярном обществе. Предметом рассмотрения становятся научно-фантастические тексты, мелодраматические фильмы, журнальная публицистика, мемориальные нарративы и «места памяти» и другие городские публичные практики, так или иначе работающие с экзистенциальной проблематикой.
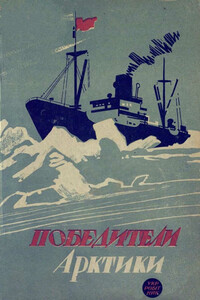
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
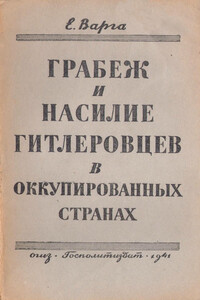
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Почти два тысячелетия просуществовал город Херсонес, оставив в память о себе развалины оборонительных стен и башен, жилых домов, храмов, усадеб, огромное количество всевозможных памятников. Особенно много находок, в том числе уникальных произведений искусства, дали раскопки так называемой башни Зенона — твердыни античного Херсонеса. Книга эта — о башне Зенона и других оборонительных сооружениях херсонесцев, об истории города-государства, о памятниках древней культуры, найденных археологами.
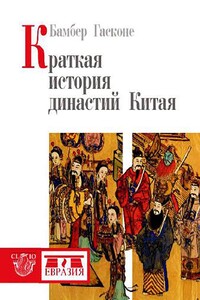
Гасконе Бамбер. Краткая история династий Китая. / Пер. с англ, под ред. Кия Е. А. — СПб.: Евразия, 2009. — 336 с. Протяженная граница, давние торговые, экономические, политические и культурные связи способствовали тому, что интерес к Китаю со стороны России всегда был высоким. Предлагаемая вниманию читателя книга в доступной и популярной форме рассказывает об основных династиях Китая времен империй. Не углубляясь в детали и тонкости автор повествует о возникновении китайской цивилизации, об основных исторических событиях, приводивших к взлету и падению китайских империй, об участвовавших в этих событиях людях - политических деятелях или простых жителях Поднебесной, о некоторых выдающихся произведениях искусства и литературы. Первая публикация в Великобритании — Jonathan Саре; первая публикация издания в Великобритании этого дополненного издания—Robinson, an imprint of Constable & Robinson Ltd.

Книга посвящена более чем столетней (1750–1870-е) истории региона в центре Индии в период радикальных перемен – от первых контактов европейцев с Нагпурским княжеством до включения его в состав Британской империи. Процесс политико-экономического укрепления пришельцев и внедрения чужеземной культуры рассматривается через категорию материальности. В фокусе исследования хлопок – один из главных сельскохозяйственных продуктов этого района и одновременно важный колониальный товар эпохи промышленной революции.
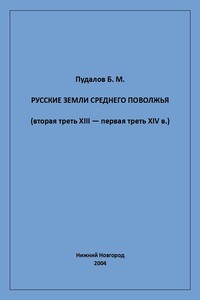
В книге сотрудника Нижегородской архивной службы Б.М. Пудалова, кандидата филологических наук и специалиста по древнерусским рукописям, рассматриваются различные аспекты истории русских земель Среднего Поволжья во второй трети XIII — первой трети XIV в. Автор на основе сравнительно-текстологического анализа сообщений древнерусских летописей и с учетом результатов археологических исследований реконструирует события политической истории Городецко-Нижегородского края, делает выводы об административном статусе и системе управления регионом, а также рассматривает спорные проблемы генеалогии Суздальского княжеского дома, владевшего Нижегородским княжеством в XIV в. Книга адресована научным работникам, преподавателям, архивистам, студентам-историкам и филологам, а также всем интересующимся средневековой историей России и Нижегородского края.

В книге делается попытка подвергнуть существенному переосмыслению растиражированные в литературоведении канонические представления о творчестве видных английских и американских писателей, таких, как О. Уайльд, В. Вулф, Т. С. Элиот, Т. Фишер, Э. Хемингуэй, Г. Миллер, Дж. Д. Сэлинджер, Дж. Чивер, Дж. Апдайк и др. Предложенное прочтение их текстов как уклоняющихся от однозначной интерпретации дает возможность читателю открыть незамеченные прежде исследовательской мыслью новые векторы литературной истории XX века.

Книга известного литературоведа посвящена исследованию самоубийства не только как жизненного и исторического явления, но и как факта культуры. В работе анализируются медицинские и исторические источники, газетные хроники и журнальные дискуссии, предсмертные записки самоубийц и художественная литература (романы Достоевского и его «Дневник писателя»). Хронологические рамки — Россия 19-го и начала 20-го века.

В книге рассматриваются индивидуальные поэтические системы второй половины XX — начала XXI века: анализируются наиболее характерные особенности языка Л. Лосева, Г. Сапгира, В. Сосноры, В. Кривулина, Д. А. Пригова, Т. Кибирова, В. Строчкова, А. Левина, Д. Авалиани. Особое внимание обращено на то, как авторы художественными средствами исследуют свойства и возможности языка в его противоречиях и динамике.Книга адресована лингвистам, литературоведам и всем, кто интересуется современной поэзией.

Если рассматривать науку как поле свободной конкуренции идей, то закономерно писать ее историю как историю «победителей» – ученых, совершивших большие открытия и добившихся всеобщего признания. Однако в реальности работа ученого зависит не только от таланта и трудолюбия, но и от места в научной иерархии, а также от внешних обстоятельств, в частности от политики государства. Особенно важно учитывать это при исследовании гуманитарной науки в СССР, благосклонной лишь к тем, кто безоговорочно разделял догмы марксистско-ленинской идеологии и не отклонялся от линии партии.