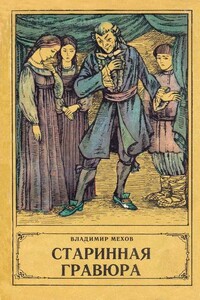Старинная гравюра - [2]
Но в то июльское утро тысяча семьсот девяносто девятого года, когда мы переступаем в Шклове порог кабинета Зорича (ах, как щекочет ноздри запах французских духов и дорогого турецкого табака!), мы застаем тут человека, лишь немногими чертами напоминающего портрет в фолианте. Поседел, потучнел, обрюзг бывший первый при дворе любовник. Сутулятся широкие плечи под мягким пухом шлафрока. Лоб озабоченно наморщен, во взгляде — тоска.
Это лишь нас, залетных птах в его имении и в его столетии, поражает все вокруг размахом и расцветом. А сам Зорич знает — все обман. Как за ломберным столом — сидишь, бывает, ни с чем, а делаешь вид, будто сорвешь сейчас банк.
Канули в лету времена, когда он мог позволить себе расходы, почитай, царские. Никакие прибыли уже не могут покрыть его миллионных долгов. И зашевелились подлецы-кредиторы, одолевают, берут за горло. Зорич, конечно, держится Зоричем — по-прежнему налево-направо раскидывается векселями, посылает богатые подарки в Петербург и Москву, кормит-поит ораву гостей, выплачивает пенсионы. Но мнутся от его расписок торговцы, просят наличными. Доползло, докатилось, что имения Зорича, кроме шкловского, заложены-перезаложены; что его заботами и на его счет основанное благородное училище по причине полного финансового расстройства передано на казенное содержание; что и над самим его шкловским владычеством висит угроза — вновь, как было уже при Екатерине, встал вопрос о продаже имения с торгов. Да в те времена имел Семен Гаврилович могущественную покровительницу. А нынче…
Дрожит подносик на полированном столике. Дрожит от того, что Зорич сердито швырнул на него трубку кальяна (ах, турецкий плен, ах, далекая молодость!). Серебряная насечка трубки стучит о фарфоровую чашку с табаком, и чашка жалобно динькает. Крепкая волосатая рука со слегка обтрепанной кружевной манжетой поспешно хватается за край подносика, чтобы тот не свалился. Это камердинер[2]. Он стоит уже давно и ждет, пока его присутствие будет замечено. У него грустные, навыкате глаза, и глядит он на Зорича немного загадочно.
Игнатий Живокини — таким у россиян стало трудное для их произношения итальянское имя Джиовакино делла Момма — смотрит так на всех и всегда. Зорич это знает и обычно не обращает внимания. Однако сейчас отчего-то злится.
— Разносит вас, монсиньор, точно пузырь! — сердито тычет он в живот камердинера. — От новостей? Просто от макарон?
Живокини делает напрасную попытку живот подтянуть. Беспомощно улыбается, прижимает широкую ладонь с короткими пальцами к груди.
— Ах, эчеленца! У вашего пиита Хемницера есть басня. Помните, ее читали на журфиксе[3] у Гаврилы Романовича. О том, что много было в обозе возов, да самый большой с какой был поклажей? С пузырями!..
Живокини позволено при хозяине шутить. Зорич любит его шутки, рассказывает о них гостям и угощает при этом слугу-шута шампанским или бросает золотой. Однако сейчас он сверкает глазами и передразнивает итальянца, растягивая на его манер слова:
— Хе-ем-ницер! Жу-ур-фикс! С пуз-ырями!.. Ради этого, монсиньор, вы сюда и явились?
Камердинер краснеет, на щеках его исчезают веснушки. Шута больше нету. Есть униженный, не очень молодой человек.
— Не ради этого, эчеленца! Простите, эчеленца… Час назад сенатору Державину привезли пакет… С фельдъегерем[4]… Я интересовался… От генерал-прокурора…
Теперь уже жарко делается Зоричу. Рукавом шлафрока он вытирает лоб. Хороших манер Семену Гавриловичу недостает всю жизнь. А тем более, когда ему не по себе.
3
Да, пакет был от генерал-прокурора.
От Петра Васильевича Лопухина. Новоиспеченного светлейшего князя. Не слишком большого приятеля Державина.
Молодой фельдъегерь, меняя на почтовых станциях рысаков, сам, должно быть, останавливался только для того, чтобы наспех перекусить. Был он серый от пыли, когда выпрыгнул из возка. Отсалютовав тайному советнику Державину палашом (ежедневные многочасовые экзерциции — первейшее к военным требование нового императора), он смог лишь засунуть в кожаную сумку расписку о вручении пакета, — повалился на кровать, даже не пригубив поднесенной чарки, напрасно старался Кондратий, камердинер Державина.
Мог и не гнать так отчаянно. Ничего чрезвычайного в пакете не было. Ничего, что заставило бы сердце Державина затрепетать от неожиданной радости или, наоборот, заныть от оскорбления. Всего лишь венценосец вновь пожурил своего седого сановника и первого на российском Парнасе пиита. Будто не слишком разумный учитель — прости, господи, сравнение рабу твоему грешному! — нерадивого школяра.
Бог свидетель, Гаврила Романович Державин принял сие высочайшее поручение не слишком пылко. Хорошо знал — ему, а не кому-нибудь другому выпало заниматься жалобами на Зорича не по причине особого к нему августейшего расположения. Просто генерал-прокурору и свату его, графу Кутайсову, Гаврила Романович был на некоторое время нежелателен в столице. В сенате ставилось на рассмотрение дело тамбовского купца-казнокрада, и Державин, недавний тамбовский губернатор, мог раскрыть в этом деле то, что Кутайсову и генерал-прокурору было бы совсем невыгодно. Да и просто Кутайсов давно уже на шкловское имение зарится.
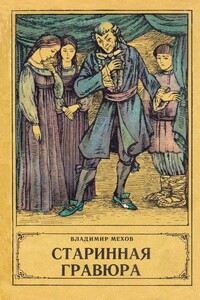
Герои повести, молодые выходцы из Белоруссии, стали по велению царя Алексея Михайловича актерами первого московского театра.
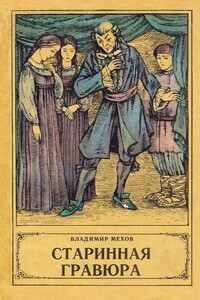
Герой повести — один из деятелей раннего славянского книгопечатания, уроженец Могилева, печатник Спиридон Соболь, составитель и издатель (в 1631 году) первого кириллического букваря для детей.

В книге рассматривается история древнего фракийского народа гетов. Приводятся доказательства, что молдавский язык является преемником языка гетодаков, а молдавский народ – потомками древнего народа гето-молдован.
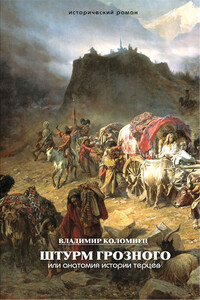
Новый остросюжетный исторический роман Владимира Коломийца посвящен ранней истории терцев – славянского населения Северного Кавказа. Через увлекательный сюжет автор рисует подлинную историю терского казачества, о которой немного известно широкой аудитории. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
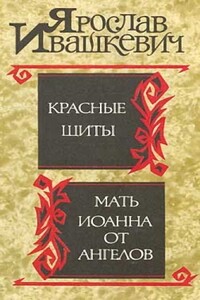
В романе выдающегося польского писателя Ярослава Ивашкевича «Красные щиты» дана широкая панорама средневековой Европы и Востока эпохи крестовых походов XII века. В повести «Мать Иоанна от Ангелов» писатель обращается к XVII веку, сюжет повести почерпнут из исторических хроник.

Олег Николаевич Михайлов – русский писатель, литературовед. Родился в 1932 г. в Москве, окончил филологический факультет МГУ. Мастер художественно-документального жанра; автор книг «Суворов» (1973), «Державин» (1976), «Генерал Ермолов» (1983), «Забытый император» (1996) и др. В центре его внимания – русская литература первой трети XX в., современная проза. Книги: «Иван Алексеевич Бунин» (1967), «Герой жизни – герой литературы» (1969), «Юрий Бондарев» (1976), «Литература русского зарубежья» (1995) и др. Доктор филологических наук.В данном томе представлен исторический роман «Кутузов», в котором повествуется о жизни и деятельности одного из величайших русских полководцев, светлейшего князя Михаила Илларионовича Кутузова, фельдмаршала, героя Отечественной войны 1812 г., чья жизнь стала образцом служения Отечеству.В первый том вошли книга первая, а также первая и вторая (гл.
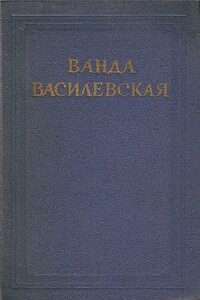
В 3-й том Собрания сочинений Ванды Василевской вошли первые две книги трилогии «Песнь над водами». Роман «Пламя на болотах» рассказывает о жизни украинских крестьян Полесья в панской Польше в период между двумя мировыми войнами. Роман «Звезды в озере», начинающийся картинами развала польского государства в сентябре 1939 года, продолжает рассказ о судьбах о судьбах героев первого произведения трилогии.Содержание:Песнь над водами - Часть I. Пламя на болотах (роман). - Часть II. Звезды в озере (роман).

Книга Елены Семёновой «Честь – никому» – художественно-документальный роман-эпопея в трёх томах, повествование о Белом движении, о судьбах русских людей в страшные годы гражданской войны. Автор вводит читателя во все узловые события гражданской войны: Кубанский Ледяной поход, бои Каппеля за Поволжье, взятие и оставление генералом Врангелем Царицына, деятельность адмирала Колчака в Сибири, поход на Москву, Великий Сибирский Ледяной поход, эвакуация Новороссийска, бои Русской армии в Крыму и её Исход… Роман раскрывает противоречия, препятствовавшие успеху Белой борьбы, показывает внутренние причины поражения антибольшевистских сил.