Станиславский - [42]
Но в данном случае беспокоиться было не о чем. Станиславский, которого некоторые вещи могли бы задеть и, возможно, задели, был от пьесы в каком-то особом восторге. Это Чехова тоже смутило. Театр — место, где кишмя кишат суеверия и слишком высокая оценка, высказанная до премьеры, считается предзнаменованием дурным. Впрочем, в отличие от большинства рационально необъяснимых примет, эта не лишена реального смысла: преждевременная похвала порождает у публики завышенные ожидания, оправдать которые не всегда удается.
Анализируя текст «Вишневого сада», Ремез замечает, что многое в этой пьесе, притом очень существенное, можно объяснить реакцией Чехова на его предшествующий опыт работы с Художественным театром. Само непривычно музыкальное строение текста, его продуманная звуковая партитура, его изначально заданный ритм, чередование диалогов и пауз — все это отличает последнюю пьесу Чехова от ее предшественниц. Он будто все время «держит в уме» постоянный и непростой диалог со Станиславским, который, щедро пользуясь непредусмотренными автором сценическими красками, выстраивая свою партитуру звуков, неожиданных мизансцен, меняет не только атмосферу пьесы, но и ее жанровые характеристики. К издевательствам критиков над всеми этими комарами, лягушками каждый раз присоединяется негодующий Чехов. Если он достаточно мягко возражает самому Станиславскому, то в письмах, адресованных не ему, высказывается без обиняков: «Испортил мне пьесу Алексеев» (см. Приложение, с. 337).
Но постепенно от недовольства внутреннего Антон Павлович, очевидно, переходит к недовольству действенному. Он пробует бороться с режиссерскими вольностями К. С. его же оружием, пытаясь предвосхитить в драматургическом тексте текст сценический. Ремез предполагает, что поразительная музыкальность текста «Вишневого сада», его продуманный контрапункт связаны с новым для Чехова энергичным авторско-режиссерским присутствием в пьесе. Спектакли Станиславского с их театральной избыточностью обнаруживали возникающую независимость языка сцены от литературной основы. Искусство — интерпретатор, еще совсем недавно рабски подчиненное драме, продемонстрировало богатство и силу чисто сценических выразительных средств, свой собственный художественный язык, на котором можно говорить не только в присутствии текста, но и за его пределами. Это один из принципиальных моментов театральной истории нового времени. Театр, принимавший перемены в своей художественной природе как дар извне, зависящий от новых тенденций в драматургии, теперь самостоятельно менял эстетические параметры спектакля, сам диктовал направление творческих поисков.
Чехов в то время, когда этот процесс лишь начинал выходить на поверхность, не мог разглядеть его исторической перспективы, угадать будущие отношения сценического искусства и драмы. Но он явно что-то почувствовал. При всей раздраженности вторжением фантазии Станиславского в его пьесу, он видел, какая выразительная сила скрывается за этими паузами, как они организуют спектакль, придавая его течению ритмическую изысканность. Как уплотняют они психологическое поле событий, помогая невысказанному, недосказанному выявить себя в зоне молчания. В этих паузах, в сторонних звуках, вторгавшихся в спектакль по воле режиссера, сценическая жизнь расширяла свои границы. За миром, где люди «носят свои пиджаки», проступало нечто, лежащее за границей вещей. И не надо было искусственно абстрагироваться от простой действительности, как делал это его Треплев, пытаясь втиснуть в пределы сцены чуть ли не всю историю мироздания, а стоило только найти не текстовой, а театральный прием, который позволит за видимым миром обнаружить себя миру невидимому. Пусть К. С. со своими лягушками-кузнечиками делал это, как могло показаться, с детской наивностью, но он достигал своей цели. Структура, объем, фактура пространства игры, которые предлагала пьеса, откровенным вмешательством режиссера менялись, становясь сложнее и многозначительнее.
В общении с новым, другим театром для Чехова открылись возможности, которые он до сих пор не использовал. И свою последнюю пьесу он писал уже явно иначе, чем прежде.
Ремез замечает странную медлительность Чехова в работе над «Вишневым садом». Он живет в Любимовке, окруженный вниманием ее обитателей и прислуги, — Станиславский обо всем позаботился. А Антон Павлович гуляет, ловит рыбу и… почти ничего не пишет. Между тем замысел пьесы уже существует и его очертания уже известны в театре. Все ждут с нетерпением. Нетерпение подогревается не только тем, что Художественный театр видит в Чехове своего драматурга, которому обязан своим самым решающим успехом. И не тем, что уже сложились не только деловые, творческие, но и тесные человеческие отношения. Есть и еще одна неотложная необходимость: театр, как и в самом начале своего существования, стоит на некой грани, отделяющей прошлое от возможного, но — никем не гарантированного будущего. Он приблизился к своей новой реорганизации и уже стал испытывать разрушительную силу первых внутренних конфликтов.
Но Чехов тянет и тянет. Ничего не закончив, уезжает из Любимовки в Ялту. У него будто не лежит к пьесе душа. Бывают моменты, когда он вообще решает ее не писать. Ему напоминают со всех сторон. Письма Книппер становятся все настойчивее и, наверное, должны вызывать у Чехова сложные чувства. В Любимовке у него опять начались кровохарканья, которые как будто бы прекратились в последние месяцы в Ялте. Очевидно, из-за ухудшения здоровья ему действительно не до пьесы. Как врач он прекрасно понимает, что означает это неожиданное ухудшение. Однако, вполне возможно, была и еще одна причина, мешавшая работе над пьесой. Если судить по результату, Чехов искал новый язык, который бы соответствовал его пониманию новых отношений между драматургией и сценой. Пьеса давалась мучительно, потому что в ней он преодолевал самого себя. Преодолевал Тригорина с его установившимися приемами ради «новых форм», которые — он как никто чувствовал это — действительно были нужны меняющемуся искусству театра. Он впервые сумел, не отказываясь от своей особенной, чеховской, жизненной правды, придать по видимости обыкновенным событиям интонацию настойчиво поэтическую. Он увидел имение Раневской со всеми его обитателями словно с высоты свободного полета, когда близкое чуть прикрыто прозрачной дымкой, сглаживающей острые формы и облагораживающей слишком кричащие краски. Зато открывается иное пространство, уходящее далеко за пределы этого близкого: историческое, социальное и то, которое вмещает в себя все существующее.
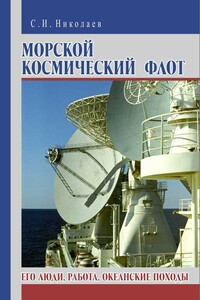
В книге автор рассказывает о непростой службе на судах Морского космического флота, океанских походах, о встречах с интересными людьми. Большой любовью рассказывает о своих родителях-тружениках села – честных и трудолюбивых людях; с грустью вспоминает о своём полуголодном военном детстве; о годах учёбы в военном училище, о начале самостоятельной жизни – службе на судах МКФ, с гордостью пронесших флаг нашей страны через моря и океаны. Автор размышляет о судьбе товарищей-сослуживцев и судьбе нашей Родины.

В этой книге рассказывается о зарождении и развитии отечественного мореплавания в северных морях, о боевой деятельности русской военной флотилии Северного Ледовитого океана в годы первой мировой войны. Военно-исторический очерк повествует об участии моряков-североморцев в боях за освобождение советского Севера от иностранных интервентов и белогвардейцев, о создании и развитии Северного флота и его вкладе в достижение победы над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Многие страницы книги посвящены послевоенной истории заполярного флота, претерпевшего коренные качественные изменения, ставшего океанским, ракетно-ядерным, способным решать боевые задачи на любых широтах Мирового океана.

Книга об одном из величайших физиков XX века, лауреате Нобелевской премии, академике Льве Давидовиче Ландау написана искренне и с любовью. Автору посчастливилось в течение многих лет быть рядом с Ландау, записывать разговоры с ним, его выступления и высказывания, а также воспоминания о нем его учеников.

Валентина Михайловна Ходасевич (1894—1970) – известная советская художница. В этой книге собраны ее воспоминания о многих деятелях советской культуры – о М. Горьком, В. Маяковском и других.Взгляд прекрасного портретиста, видящего человека в его психологической и пластической цельности, тонкое понимание искусства, светлое, праздничное восприятие жизни, приведшее ее к оформлению театральных спектаклей и, наконец, великолепное владение словом – все это воплотилось в интереснейших воспоминаниях.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.
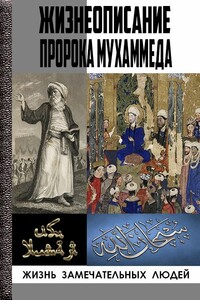
Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.
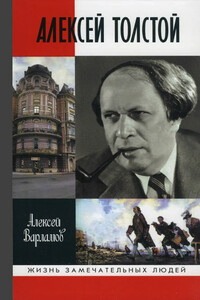
Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.