Среди рабочих - [5]
— А ведь я думал, — твой ребенок-то, — сказал я,
— Что ты, что ты, батюшка! — воскликнула она с испугом. — На кой они мне, прости, господи, ляд!.. И без них тошнехонько! Внучек это мой… опосля покойника сынка остался… У меня ведь сынка-то ноне перед масляницей убило…
— Как убило? — спросил я, дивясь тому равнодушно-мертвому тону, с каким она произнесла эти слова, и глядя в ее моргающие, слезящиеся глаза.
— Убило, батюшка, убило деревом… Господу, знать, так угодно!.. Пошел это он в рощу, — начала она, совсем повернувшись ко мне, — не один пошел… четверо их пошло… две, значит, пары… Лес они тамотка подрядили валить двенашник на барской двор… Ну, ладно… Отвели им на каждую, значит, пару по полосе… Ну, и так уж вышло: повалила другая-то пара елку, и пошла она прямехонько на моего Сережку… Братишка-то, Колька, извернулся… успел как-то, ухляснуло, значит, только, а мой не успел… прямо ему вот по этому самому месту хватило вершиной… весь череп снесло! словно корова языком слизнула… Как ткнулся, так господу душеньку и отдал. Крови-то вышло!
Она помолчала, высморкалась пальцами и продолжала:
— Пошло это дело по суду… Нарядили караул… Мы тутатка тоже… я, старик, молодая… без души стали! Ревмя ревем! Легко ли, сам суди: кормилец ведь… растили, ходили, ночей не досыпали, куска не доедали… Ну, ладно… Лежит это он в лесу… сутки лежит, другие лежит… а мороз-то, господи Исуси! замерз он весь, значит, аки сосулька… Молодуха катается коло его… ревет белужиной… На третьи сутки прибыл становой, дохтур… перетащили его в сторожку. Опосля этого, милый человек, учали его потрошить… Белое его тело пластать… Заступница!.. Вина, вишь, в ем искали, пьян, значит, не был ли?.. А он от роду и в рот не брал… Дохтур рукава засучил по локоть… Цыгарка в зубах. По брюху-то как звездорезнет кулаком, инда дух вышел… «Эка, баит, мальги-то был, свекла»… Ну, знамо, ничевошенько не нашли… Зашили опять на скору руку… готово дело! Принимайте! Можете теперь хоронить.
Она опять высморкалась и продолжала:
— Привезли мы его домой… обмыли, обрядили… Веришь, родной, — как тебя звать не знаю, — народ-то весь плачет, на нас глядя… жалко! Каждый по себе мерит… Ну, похоронили… поминки сделали!.. Телку огульную продали… допьяна народ-то напоили… Хучь песни петь… Ах, батюшки, — перебила она сама себя, — никак меня!
С крыльца в открытую стеклянную дверь звали ее:
— Мамка, мамка!.. Иди обедать… Оглохла, что ли?!
Баба вскочила и торопливо, почти бегом, пошла к крыльца. Я встал и, ожидая, когда позвонят на работу, пошел бродить по имению.
VIII
Имение было большое, но наполовину запущенное, с какими-то развалившимися постройками, поросшими крапивой.
Когда-то, в годы еще не столь отдаленные, оно процветало.
Всюду виднелись места бывших строений: груды кирпича, часть стены, полуразвалившаяся башня и т. п.
Но и теперь еще многое уцелело от прежнего величия. Все это было сложено из огромного кирпича, прочного, фунтов по восемнадцати весом в каждом. Уцелели амбары, риги, конюшня, скотный двор и какие-то два полукруглых флигеля, называвшиеся богадельней, где доживали на покое, дожидаясь смерти, человек пять-шесть бывших «подлых людишек».
Вид этих уцелевших построек был какой-то страшный, тяжелый и мрачный… От них так и веяло стариной и ужасом крепостного права!..
В особенности гадко выглядывали флигеля с какими-то потемневшими, загаженными, мрачными окнами, с крышей, местами провалившейся, поросшей от древности мелким, плотно приставшим, точно приклеенным к тесинам, похожим на бархат, мхом, с крыльцами, на которые вели сгнившие ступеньки, с холодными, похожими на склепы, сырыми сенями.
Две огромные корявые березы росли около этих флигелей и точно заслоняли их от бурь, протягивая над крышами свои длинные ветви… На вершинах этих берез грачи вили свои гнезда, и грачиные крики с утра до ночи придавали еще более унылый вид старым флигелям…
Под окнами близ крыльца на низенькой скамейке сидели и грелись на солнышке два седых, древних старца без фуражек, в длинных старомодных сюртуках… Они о чем-то перекидывались словами, и оба сидели, опираясь на палки с набалдашниками.
Когда я проходил мимо, один из них вдруг застучал палкой об землю и закричал:
Шапку… шапку… про-про-хвост!..
Я остановился, не понимая, и с удивлением глядел на эти типичные «холуйские» фигуры.
— Шапку долой!.. Кланяйся! — опять закричал старик. — Эх ты, прохвост! Шатается тут…
Я невольно засмеялся… Какой далекой, далекой стариной веяло от этих старцев!
Видя, что я смеюсь, старик совсем обозлился и, приподнявшись с места, замахнулся на меня палкой и закричал визгливым голосом, шамкая беззубым ртом и брызгая слюной:
— Не видишь, подлец, кто перед тобой?.. Голова отвалится поклониться-то… Вольница поганая!..
Я отошел от них и, услыша звонок, призывавший на работу, отправился снова таскать камни…
IX
Работать кончили поздно вечером. Все рабочие, опять по звонку, отправились на кухню ужинать… Было часов около десяти… В кухне было полутемно, и поэтому пришлось зажечь лампу. Сели за стол, стряпка подала щей… Щи были остывшие, почти совсем холодные, разбавленные водой, противные… Некоторые попробовали, но, хлебнув ложку-другую, бросили и сидели насупившись, усталые, голодные и злые…
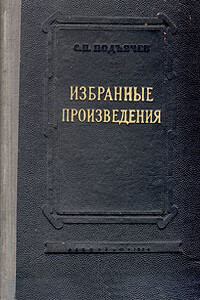
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

ПОДЪЯЧЕВ Семен Павлович [1865–1934] — писатель. Р. в бедной крестьянской семье. Как и многие другие писатели бедноты, прошел суровую школу жизни: переменил множество профессий — от чернорабочего до человека «интеллигентного» труда (см. его автобиографическую повесть «Моя жизнь»). Член ВКП(б) с 1918. После Октября был заведующим Отделом народного образования, детским домом, библиотекой, был секретарем партячейки (в родном селе Обольянове-Никольском Московской губернии).Первый рассказ П. «Осечка» появился в 1888 в журн.
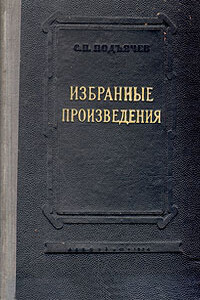
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести „Мытарства“, „К тихому пристанищу“, рассказы „Разлад“, „Зло“, „Карьера Захара Федоровича Дрыкалина“, „Новые полсапожки“, „Понял“, „Письмо“.Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
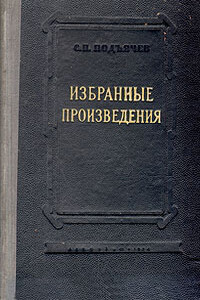
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
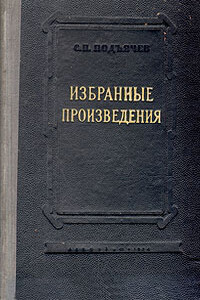
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
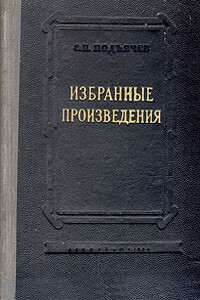
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.