Среди рабочих - [3]
Он засмеялся и зашагал от меня прочь…
V
Этой дурацкой и утомительной работой я занимался до самого обеда, то есть до двенадцати часов дня. У меня болели спина, руки и грудь, а главное, разбирала злость на нарядчика, который, очевидно, глумился надо мной, испытывая мое терпение и вымещая свою досаду на «тутошних», то есть московских рабочих.
Ровно в двенадцать часов позвонили к обеду.
К большой избе, стоявшей поодаль от других построек, потемневшей с виду, шли со всех концов люди. Здесь были рабочие мужики, и плотники, и конюхи, и садовники, и бабы-пололки и бабы-скотницы.
Вместе с другими я тоже вошел в кухню. Все здесь было грязно, черно, покрыто копотью, паутиной и наполнено каким-то особенным гадким запахом.
Налево от входной двери разлеглась огромная печь, занимавшая пол-избы, грязная и ободранная, с бегающими по ней тараканами… Направо в углу стояла койка ночного сторожа и перед ней висела люлька: в люльке барахталось и визжало живое существо, завернутое в грязные тряпки, от которых шел неприятный острый запах… Подальше, начиная от переднего угла, где виднелись покрытые копотью и паутиной образа, стоял длинный, широкий и необыкновенно грязный стол со скамьями по обе стороны… В заднем углу за печкой были нары, на которых валялась разная рухлядь: армяки, полушубки и т. п.
На стене, между окон, неподалеку от образов, висел загаженный мухами портрет Ивана Кронштадтского и картина, на которой был изображен чорт, державший в руках пьяницу, с надписью внизу: «Водка есть кровь сатаны»… Тут же висел лист бумаги, на котором крупными буквами старательно было написано: «Ругаться матерно строго воспрещается»… Бумага эта была скреплена собственноручной подписью «самого»: «Карл Иванович Берг, ученый управитель».
Мне пришлось сесть с краю, рядом с каким-то парнем, молодым, румяным, с шапкой густых волос, похожих на трепаный лен.
Когда все кое-как торопливо и беспорядочно разместились, «стряпка», краснощекая, гладкая, бойкая бабенка, жена ночного сторожа, крикнула от печки:
— Все, што-ли-чка?
— Все! — ответил нарядчик и, взяв ковригу хлеба, стал резать ее на ломти. Стряпка поставила перед ним деревянный большой грязный кружок, три огромных, похожих на лоханки, чашки, ножик, сделанный из косы, и, подойдя к печке, где стоял на шестке большой чугун со щами, достала железной вилкой, похожей на вилы об двух рожках, кусок чего-то длинного, дымящегося, с виду напоминающего портянку. Со словами: «Посторонись… ошпарю!..» — она шлепнула перед нарядчиком это «что-то» на деревянный кружок.
Нарядчик встал, засучил рукава и, взяв в правую руку нож, начал резать это «что-то» на мелкие куски.
— Ну, уж и солонинка! — сказал один из рабочих, сидевший по другую сторону стола, напротив нарядчика. — За непочтение к родителям жрать ее… Истинный господь… маханина это…
— Поболе да потухлей, — сказал другой.
— Сойдет! — сказал опять первый с горечью. — Свиньям да рабочим все годится.
— А дома-то, небось, коклетки жрешь? — вскинув на него глазами, произнес нарядчик и, облизав языком грязные пальцы на левой руке, опять принялся «крошить».
— Да тебе-то что ни дай, все сожрешь, — ответил первый рабочий. — Известно, Рязань косопузая. Вы дома-то у себя свиную болтушку хлебаете.
— На меня ноне ни одна собака еще не лаяла, — сказал нарядчик, — ты, вот, первый затявкал…
— Сам ты собака! Виляешь хвостом перед самим…
— Отстань, жулье московское!
— Как тебя не лаять-то, чорт! Тебя бить надо… плачешь, да бьешь…
Нарядчик промолчал и, разделив приблизительно поровну на три кучки накрошенную солонину, разложил ее по чашкам.
Стряпка, дожидавшаяся, пока он кончит эту процедуру, взяла чашки и понесла их к печке, чтобы налить щей, запах которых, кислый и противный, наполнил уже все помещение кухни… Щи были очень плохие, черные, отдававшие горечью.
Ели молча, точно сердясь на что-то. Слышалось чавканье, стук ложек… Когда чашки со щами опорожнились больше чем наполовину, нарядчик постучал о край и сказал:
— Таскай совсем!
Начали «таскать» совсем… Солонина была с сильнейшим «душком», до того жесткая, что не было никакой возможности разжевать ее, и приходилось глотать кусками.
После щей подали гречневую кашу с растопленным и совершенно тухлым свиным салом… Каша была непроваренная и некрутая, белая цветом, похожая на «размазню». Ее ели молча и не все: уж очень отвратительно пахло салом!
Те, кто не ел, молча вылезли из-за стола и, не выходя из кухни, стали курить.
Я тоже «вылез» и, сев около койки ночного сторожа, стал приглядываться к народу и прислушиваться к разговорам.
VI
Ко мне подошел парень, сидевший рядом со мной за столом, и, глядя на меня большими, прекрасными глазами, похожими на васильки, сказал, улыбаясь пухлыми розовыми, губами:
— А ты чей?.. Откеда? Дальний, а?..
Я поглядел в его доброе лицо и, тоже улыбнувшись, ответил:
— Нет, не дальний… Здешний…
— А я рязанский! — проговорил он и повторил радостно: — Да, рязанский… Данковского уезда.
— Голод у вас там был, — сказал я, чтобы сказать ему что-нибудь.
— Был! — опять радостно воскликнул парень и, помолчав, прибавил: — Жуть!.. Да ты-то почем знаешь?
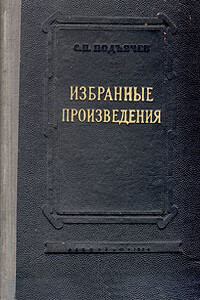
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

ПОДЪЯЧЕВ Семен Павлович [1865–1934] — писатель. Р. в бедной крестьянской семье. Как и многие другие писатели бедноты, прошел суровую школу жизни: переменил множество профессий — от чернорабочего до человека «интеллигентного» труда (см. его автобиографическую повесть «Моя жизнь»). Член ВКП(б) с 1918. После Октября был заведующим Отделом народного образования, детским домом, библиотекой, был секретарем партячейки (в родном селе Обольянове-Никольском Московской губернии).Первый рассказ П. «Осечка» появился в 1888 в журн.
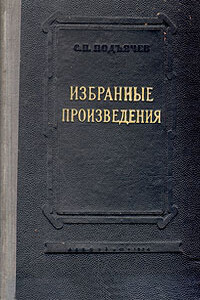
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести „Мытарства“, „К тихому пристанищу“, рассказы „Разлад“, „Зло“, „Карьера Захара Федоровича Дрыкалина“, „Новые полсапожки“, „Понял“, „Письмо“.Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
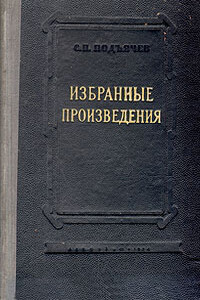
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
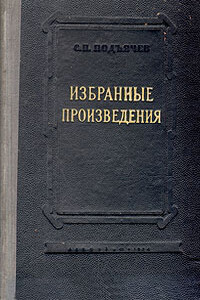
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
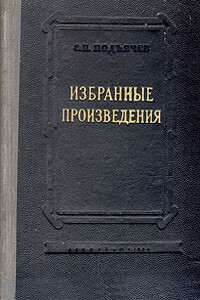
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.