Среди рабочих - [4]
— Знаю… слыхал…
— О-о-о!.. Грамотный, что ли?
— Грамотный…
— Я тоже грамотный! — с видимой гордостью и сделав серьезное лицо, сказал он.
— И чего ты, Тереха-Воха, врешь! — вступился в наш разговор пожилой, долгобородый мужик, сидевший на скамье у стола неподалеку от нас. — Какой ты грамотный? «Вотчю» по складам читаешь.
— Ладно! — весело воскликнул парень. — Толкуй, кто откуль… Как никак, а все поболе твоего знаю.
— Мы не хвалимся, — ответил мужик, — где нам! Нас не учили… Водку, небось, глотаешь здорово, а?… — спросил он вдруг у меня и, не дожидаясь моего ответа, продолжал:- Ах, ребята, ребята, не пейте вы, главная причина, водку… Яд это… кровь сатаны. На что и грамота, коли водку жрешь… А уж ежели пьешь, так пить-то надо умеючи… Вот я вам расскажу, какое через нее дело произошло…
Он встал с места, пересел к нам, утер губы рукавом рубашки, встряхнул длинными, нависающими на глаза волосами и начал:
— Жила, видите ли вы, други милы, баба одна; и был у ней муж, к примеру сказать, хучь вот такой, как ты… И пил он, прямо надо говорить, мертвой чашей… Ладно! А-атлично! Уж что только она с ним ни делала — пьет, и шабаш. Ладно. Вот и научи ее одна старушонка, бабу-то эту, как сделать, чтобы, значит, отвадить его от вина… Возьми ты, баит, желанная, с трех упокойников в то, значит, самое время, когда их обмывают, воды этой самой, подай ему испить… как рукой, байт, сымет!.. Ладно! Известно, баба так баба и есть — дура… достала этой самой воды… Пес ее знает, где она раздобылась!.. Исхитрилась, дала ему испить, пьяному… Ну, ладно!.. Испил он этой самой воды и потянуло его, значит, ко сну… спать захотел… Говорит жене: «Пойдем на вышку». Ладно! Пошли спать… Поутру встают домашние: нет молодых… не идут с вышки, а уж время. Завтрак на дворе… «Что такоича за оказия»… Влезли туды. Глядь, ан, там вот какой грех вышел!
Рассказчик помолчал, обвел глазами всех слушателей и продолжал:
— Съел он, значит, жену-то свою… обглодал как есть дочиста! Взяли его… связали… туды-сюды… пято-десято… А он и говорит: «Я, говорит, не ел… Нас, говорит, трое ело»… Д-да! вот оно какое дело-то… Баба мне это одна рассказывала.
— Заливает твоя баба, Устин, здорово! — сказал кто-то.
— Вот-те и заливает… Не заливает, а истинная правда. Не верите вы. Умные больно стали…
Он помолчал немного, набил табаком глиняную трубку, покурил и заговорил опять:
— В грамоте-то что проку? Учат, учат, а правды все нет. Греха не прохлебаешь! Возьмем, к примеру, сказать, волость, суд, тоись, наш… Каки порядки? Кто делом правит? Писарь… человек грамотный, ученый… Ладно… а-а-тлично! А что толку? Опять председателев взять… ворочают, как им вздумается… Кто виноват, по-ихнему выходит прав… сух из воды вылезет. Сделал угощенье, задобрил судей-то праведных… залил им глотку — неправда на правду и перекинулась… Так-то!
— Ты семейный? — спросил я.
— А то как же… хрестьянин я… Дома мало только живу… Всю жизнь по людям… Да ноне и по людям-то плохо стало… Умножилось народу, теснота! Хозяева нашим братом, прямо надо говорить, как мочалкой трут… В деревне жить — не у чего… Земли нет. Тяжелые времена подошли! И грамота твоя ничего не помогает… Какая грамота, коли жевать нечего… Не до нее! Сытому-то, родной, и молиться гоже… — Он замолчал и затем воскликнул: — Десятина на душу! Вертись, как хошь… Нанял бы, да негде. А тут подати: хучь роди, а давай… А где их взять? Житье, не образуешься…
Он махнул рукой и замолчал…
VII
Я вышел из кухни и пошел к крыльцу дома в надежде увидеть управляющего. Но его не было: пока мы обедали, он уехал куда-то. От нечего делать я подошел к погребу, где под навесом на низенькой скамейке сидела какая-то пожилая баба с ребенком на руках… Ребенок пищал безостановочно, настойчиво, жалобно, точно котенок, выкинутый в канаву… Баба сидела, склонившись к нему лицом, и не делала никаких попыток унять его крик… Казалось, она спала, и в ее позе было что-то жалкое, пришибленное, робкое… Я спросил, почему она не хочет покормить ребенка грудью или дать соску, чтобы он затих.
— Да он, батюшка, не с голоду блажит, — заговорила она, точно проснувшись, и с каким-то испугом взглянула на меня, — такой уж он озглявый с роду… скулит тебе и скулит… Ни дня, ни ночи спокою нетути… Болезнь такая, — пояснила баба, — старость собачья, тает, ровно свечка… Ты глянь-ка-сь на него… Страсти господни!..
— Что ж ты не лечишь его! — взглянув на ребенка, почти с испугом воскликнул я.
— Как, родной, не лечить, лечили!.. Пытали мы с ним мыкаться… Что ни что делали… запекали…
— Запекали?
— Да бабушка запекала… Поутру затопила печку… Взяла бабушка его, положила на хлебну лепешку да до трех разов и совала в печку горячую.
— Ну, и что же?
— Ничего… Не берет и не берет!.. У других, вон, посмотреть, мрут, а на этого и смерти-то нету… Притка его знает, что таперича с ним и делать…
— Ты что ж, здесь живешь? — полюбопытствовал я, — аль к мужу пришла?
— Какой, батюшка, к мужу… нетути! Муж мой дома, в деревне. К невестке я пришла… У приказчика здешнего, у самого, значит, у наибольшего в кухарках она живет… Ну, вот, поживу у ней тутатко недельку, погощу… Боле-то не велят: сам-то туды, сюды… сама строгая, расстрогая… известно… Дома-то мы, родной, — как тебя звать, не знаю, — бедно живем… Почитай, есть нечего… Только молодая и выручает… Три цалковых, вот, обещала… ею только и дышим… Да и ей-то где взять: дело бабье… Таматка, в деревне-то, у ней есть ребеночек по семому году… Сироты остались…
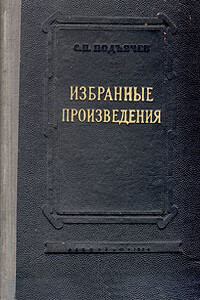
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

ПОДЪЯЧЕВ Семен Павлович [1865–1934] — писатель. Р. в бедной крестьянской семье. Как и многие другие писатели бедноты, прошел суровую школу жизни: переменил множество профессий — от чернорабочего до человека «интеллигентного» труда (см. его автобиографическую повесть «Моя жизнь»). Член ВКП(б) с 1918. После Октября был заведующим Отделом народного образования, детским домом, библиотекой, был секретарем партячейки (в родном селе Обольянове-Никольском Московской губернии).Первый рассказ П. «Осечка» появился в 1888 в журн.
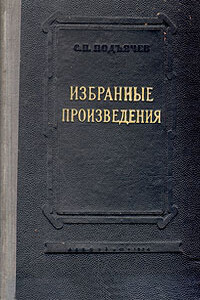
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести „Мытарства“, „К тихому пристанищу“, рассказы „Разлад“, „Зло“, „Карьера Захара Федоровича Дрыкалина“, „Новые полсапожки“, „Понял“, „Письмо“.Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
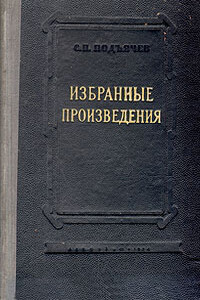
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
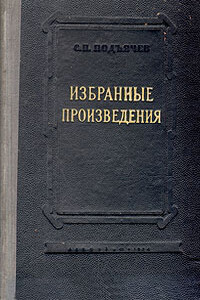
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.
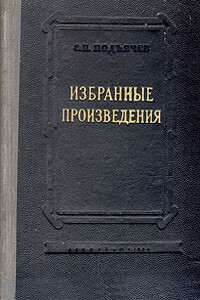
В сборник Семена Павловича Подъячева вошли повести «Мытарства», «К тихому пристанищу», рассказы «Разлад», «Зло», «Карьера Захара Федоровича Дрыкалина», «Новые полсапожки», «Понял», «Письмо».Книга предваряется вступительной статьей Т.Веселовского. Новые полсапожки.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Впервые опубликовано – в альманахе «Война золотом. Альманах приключении», М. 1927. Издание это изобилует опечатками, обессмысливающими текст. Печатается по автографу (ЦГАЛИ).

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

После десятилетий хулений и замалчиваний к нам только сейчас наконец-то пришла возможность прочитать книги «запрещенного», вычеркнутого из русской литературы Арцыбашева. Теперь нам и самим, конечно, интересно без навязываемой предвзятости разобраться и понять: каков же он был на самом деле, что нам близко в нем и что чуждо.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.