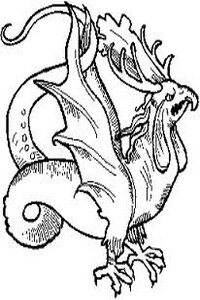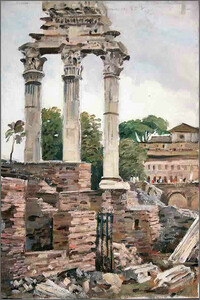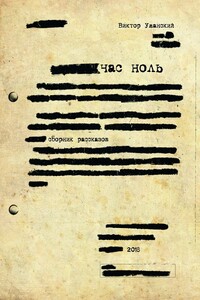Молчали, сгрудившись на самом краю обрыва — того и гляди, не выдержит отсыревшая, размокшая глина, и рухнет вниз целым откосом, с плеском упадёт в прозрачные воды Ухвойки, растворяясь грязью и мутью, того и гляди соскользнёт чья-нибудь нога, а там долго ли и шею сломать, однако же, собрались все там — на самой кромке, всматриваясь в тусклую, моросью и туманом занавешенную даль, считая удары вёсел, пытаясь расслышать голоса с ладьи, откуда-нибудь с самого её носа, где уж наверняка кто-то точно также приложил ладони ко рту и широким, распевным голосом воскликнул раскатистое «Радуйтесь!». Но туман глушил и звуки, и мысли, полагая им слишком близкий предел, и потому оставалось молча ждать, и Альрех ждал, давая отдых усталой спине, чувствуя, как по потному, разгорячённому телу гуляет почти недвижный холодный воздух, и озноб подступает так близко, что хотелось сжать на груди руки поплотнее, и уж больше не стоять на берегу, и тогда он переминался с ноги на ногу, растирал ладони, и вслушивался, стараясь различить тот самый возглас приветствия, что сделался знаком для них, тех, кто отправился в изгнание и оставил великолепие Среброгорящей ради права быть волшебником. И когда поутру ломило кости и сводило мышцы от вчерашнего труда и от сна на сырой земле под тонкой и волглой, как всё кругом, шерстяной накидкой, когда голос хрипел и сипел, и горло не в силах было исторгнуть ничего, кроме проклятий, кто-нибудь различал сквозь серую утреннюю хмарь его, проснувшегося, и приветствовал с весельем наглеца — «Радуйся, брат!». И свернуть бы шею тому, кто выдумал такое приветствие, и язык бы ему выдернуть, а только нельзя — сам придумал, сам и терпи. И радоваться-то было нечему, да всё же была в этом возгласе ещё не истёршаяся, живая сила, звенящий смысл, наполняющий душу полнозвучным откликом. После сотрётся, как стирается под ногами служителей мозаика на полу соборов, исчезнет, истопчется, останется лишь собственной пустой оболочкой, как высосанная пауком муха, останется строгим наставлением прошлого, но сейчас, в глуши, в изгнании, громче всех приветствий и многосложных званий звучало это простое: Радуйся, брат!
Ладья подплыла. Пристань соорудить не успели, но были сходни — перекинули их, и по качающимся, шатким доскам, одетый в льняное платье до пят, первым сошёл на берег мудрейший Имбрисиниатор.
— Радуйтесь, братья! — воскликнул он, и Альреху показалось, будто старик смущён, и как-то неловко раскидывает руки и прячет улыбку в окладистой бороде, в бороде той серо-свинцовой масти, в которую превращаются смоляные, чёрные волосы, чтобы, даже поседев, никогда не стать белым невесомым пухом, гонимым всяким ветерком. Он будто остановился, готовясь произнести речь, как случалось ему не раз, но то ли мрачная стена леса слишком уж отличалась от праздничного убранства собора, то ли и вовсе не было теперь никакой нужды в речах, но старик только шагнул вперёд, обнял Альреха, растрепал русые волосы Житьки, шепнул что-то разрыдавшемуся вдруг толстяку Зинтернаху, раскланялся с надменным Интрогом, который даже здесь оставался холоден и строг, и в этом его высокомерии было какое-то величие, и Альрех втайне был благодарен звёздам, что они судили так, и Интрог пошёл вместе с ним, в изгнание, презирая своей несгибаемостью все обстоятельства и невзгоды. Сбегали по сходням прибывшие вместе с Имбрисиниатором братья, радостно восклицали, находя знакомых, оглядывались, потрошили дорожные сундуки, хвалясь привезёнными припасами и книгами. Уже успевшие обжиться хозяева только смеялись и перемигивались — снеди хватало, и книги, кажется, привезены в избытке, много больше уже, чем может вместить врытая в землю избёнка, тёмная землянка, крытая хворостом и лапником, где днём и ночью теплилась, дымя, самодельная печка — а куда ещё прятать их от всепроникающей влаги, от повисшей в воздухе мороси и подступающей плесени? — а вот топоров не хватало, пил бы хотя б с десяток, камней бы точильных, хорошо бы ещё молотков и гвоздей добыть, да уж, видно, снова не в этот раз.
Взяв наставника под руку, Альрех водил старика по обжитой братьями поляне так, словно по дворцу, проходя неспешно и заглядывая всё в новые и новые комнаты, где таились диковины одна другой чуднее, притягательней и изящней. А начал так:
— Ну, что же, наставник, добро пожаловать в Небо Коптящую Глушину! — воскликнул он, лицедействуя. — Представьте, у этого места уже появилось называние, и, признаюсь, мне нравится, как нарекли его наши острословы. Когда-то волшебники древности уходили прочь от суеты в далёкую Дремчугу, а мы сбежали куда-то совсем уж далеко, в дебри, в непролазный лес, в глушь, в Глушину. Может, когда-нибудь и она получит любимое певцами и славословами прозвище, перещеголяв Среброгорящую! Сделается, грех сказать, какой-нибудь Высокоглавой, а пока вот, как видите, назвали точнее некуда! А что ж мы ещё и делаем, как не небо коптим, мудрейший?
Старик ответил сдержанно, безо всякой улыбки:
— Кажется, что-то ещё делаем. Но об этом после, — и, совсем уж иначе: — Так что же наша Глушина? Как вижу, это — поварская? — он указал на чугунный котёл поставленный поверх тяжёлой, разлапистой подставки, под которой тлели алые угли, подёргиваясь от движения воздуха пепельно-дымчатой плёнкой.