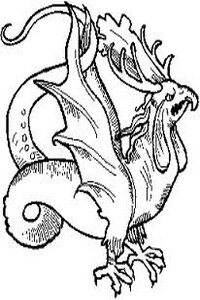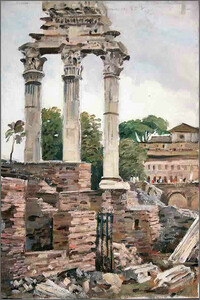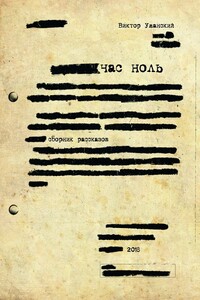Житька решился. Подбежал к воротам — стража, видно, ждала, изготовились ловить слишком прыткого мальца, но Житька подбежал к стражнику (оказалось, тот самый), сказал:
— Дядька, я уж тут постою? Одним глазком гляну.
Тот сперва насупился, да чего уж, не прогнал. Медленно закрывались тяжёлые ворота, степенно проходили через них последние волшебники, отворачиваясь от Житьки (или только казалось?). Вот, уже скрылись из виду Имбрисиниатор с щёголем Тинарзисом.
Житька не глядя, тайком, смотал тряпицу с бутыли, и, стараясь, чтоб из руки не выскользнула тяжёлая, скользкая ноша, поднёс тряпицу к огню пламенника. Та затеплилась, шипя и дымя, едкий запах колдовской жидкости ударил в ноздри, а между створок ворот всего и осталось-то две ладони. И Житька прыгнул.
Он — волшебник. По случайности, из-за невзрачной одежды его не разглядели, но назад уже нельзя. Нельзя снова стать обычным Житькой, третьим сыном продавца спитого чая, если был уже волшебником в Среброгорящей.
— Лаим шесте стомархат! — выкрикнул он в темноту, приложился к бутыли и выдохнул струю огня.
Всё случилось не так, как он ожидал.
Кажется, никто ничего не понял, вспыхнула и загорелась одежда на колдуне, оказавшемся рядом, забегали и закричали люди, хотели распахнуть ворота, но кто-то крикнул: «Ворота не трогать! До обряда никто не выйдет!». С погорельца сорвали его красную куртку и затушили огонь, он как-то тихо и испуганно выл, кругом кричали, но Житька не понимал больше ни слова. Потом его скрутили, заломили руки, он оказался на коленях, и видел только мозаичный пол, но вскрикнул, как от боли, когда бутыль упала на пол и разбилась, проливаясь едко пахнущей лужей, в которой плавали осколки.
Больше он не мог видеть ничего, но только слышал, как спорят, крича до хрипоты, волшебники, он не понимал ни слова, он видел только собственную мечту, разбитую, плавающую осколками в маслянистой жидкости, которая уже успела пропитать ткань на его коленках. В душе было пусто. Слезы больше не текли, и он смотрел на осколки толстого, мутного стекла, на разлитое по мозаичному полу волшебство и думал, что уличный волшебник, бритый налысо и пьяный, видно, оказался слишком неумелым и его колдовство смешно настоящим волшебникам. Глупо было пытаться удивить их этим. Странно, но он совсем не жалел. Какое-то омертвение охватило его посреди всего шума, несмотря на боль в саднящих коленях и скрученных руках.
— Как тебя зовут, мальчик? — услышал он вдруг ласковый голос. — Не заставляй меня повторять вопроса.
— Житька, мудрый.
— Ты вбежал сюда, чтобы доказать нам своё право быть волшебником, верно, Житька?
— Да как он может ответить на этот вопрос! Ты же сам за него ответил, ему только согласиться. Это ничего не докажет, мы против! — быстрой, странно сухой, щёлкающей речью прострекотал кто-то, и опять зашумели, но Житьке уже было всё равно, он отвечал:
— Именно так, мудрый.
— Как ты узнал заклинание огня? — последовал вопрос.
— Я носил уличному волшебнику вино, и тот, охмелев, принял меня за своего ученика. Он рассказал мне и дал жидкость, нужную для колдовства.
Снова шум незнакомой речи, и вдруг вернувшийся к дремчужской голос:
— Отпустите его. Я, Альрех-Тинарзис, беру его своим учеником. Отпустите его, повторяю я, или вы забыли, кто перед вами?
Вторую неделю накрапывал дождь: такой мелкий и тонкий, что казалось, будто его капли не падают вниз беспокойной моросью, а повисают в воздухе бесплотным туманом — из-за него-то и дышалось тяжелее, и работа шла натужнее. Альрех-Тинарзис, Предвидящий Звёзды, срубал сучья с поваленной ели. Он размахнулся и в который раз ударил топором, тот тяжело клюкнул и увяз в смолистой и влажной еловой плоти. Альрех отёр со лба пот и замахнулся вновь. Погода под стать месту, небеса согласны с землёй. Он с трудом мог представить себе, что над этим хмурым ельником, непролазной чащею покрывавшим крутой берег Ухвойки, может радостно сиять весеннее солнце или трещать по зиме жестокий мороз — нет, низкое небо, застланное тяжёлой, седой пеленой, верно, приковано было к земле колдовством тёмной хвои, густой неподвижностью вязкой еловой крови, каплями прозрачной смолы проступающей на срубах. Топор ещё раз ударил, и толстый сук, поддаваясь, дрогнул, зашумел, тряся игольчатой лапой. Альрех перехватил топор поудобней, пошире расставил ноги и рубанул.
— Плывут! — зазвенел тонкий голос. — Плывут! Ладьи плывут!
Не прекращая радостно голосить, Житька торопливо взобрался на взгорок, подбежал к нему, чуть запыхавшись, и повторил: «Учитель, плывут!». Альрех оставил топор, распрямился: спину с непривычки ломило, и он невольно крякнул, ухватясь ладонями за поясницу:
— А ну, пойдём посмотрим, — ответил он; огляделся, повременил самую малость неизвестно зачем и поспешил к берегу вслед за мальчишкой, оскальзываясь на влажной, вчера только скошенной траве. Братья, как и он, оставляли работы и шли встречать медленно выплывающую из-за излучины ладью. От неё и виден пока был только краешек носа, но вёсельный плеск радостной вестью разлетался уже над рекой.
Парень — из тех, кого Альрех узнал лишь в изгнании, и которого помнил пока по одной только вихрастой, чёрной голове, бычьей шее и совершенно вздорным взглядам на размыкание пределов незримого естеством существования человеческого духа, а имени чьего не знал вовсе, — тот парень уцепился за тоненькую, приютившуюся на самом краю обрыва молодую берёзку, невесть как выросшую в непролазной глуши ельника, приложил ладони ко рту и звучным, далеко слышным голосом пропел: «Радуйтесь, братья!», «Радуйтесь» — слабо, едва слышно донеслось в ответ, а может просто отзвук отразился от воды, но вёсельный плеск стал как будто ближе.