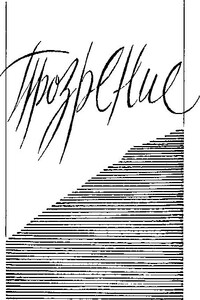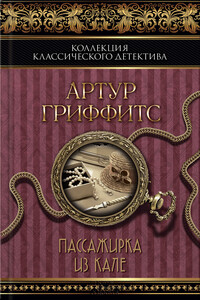Улетая из отряда, Алексей думал о радистке, ему было бесконечно жаль ее, и он решил, что должен к рассвету проскочить обратно в отряд и вывезти девушку — лучше умирать среди своих.
Алексей уже дважды вывозил раненых партизан и сразу же терял их из вида, но эти отважные люди, сражавшиеся за крымскую землю, оставались в его памяти.
Алексей летел низко, разглядывая привычным беглым взглядом опаленные и сваленные деревья, заросшие сады, сожженные виноградники, голые телеграфные столбы возле разбитых дорог, и в одну из таких минут заметил вдали самолет противника. «Фокке-вульф», должно быть, возвращался с бомбежки, потому что шел легко и свободно, не имея груза. Он приблизился и дал короткую очередь.
Возможно, враг устал или расстрелял патроны, или просто пелена тумана, поднимавшегося с моря, мешала ему вести хорошее наблюдение, но он улетел прочь.
Несколько пуль пробили фюзеляж машины Алексея.
За фонарем самолета сияли вечные странники неба, но свет звезд не утешал Щербака, как раньше. Он с горечью подумал о радистке и, ясно поняв, что теперь уже спасти ее не сможет, связался с аэродромом.
— Олень! Как слышишь?
— Понял вас, Леший, — ответила земля. — Слышу.
— Возвращаюсь со свидания. На борту трое тяжелораненых.
— Ни с кем не поругались?
— Да попался тут один конопатый. Поцарапал слегка, но доберусь. На свидание пошлите еще кого-нибудь. Нужно срочно забрать человека.
Земля замолчала. Должно быть, радист разбудил начальство и наводил справки.
— Забрать надо обязательно, Олень, — сказал Алексей.
— Понял вас, Леший. Послать нельзя — скоро светает. Придется подождать до завтра.
— Где Лунатик? — спросил сердито Щербак.
— Только что поднялся с постели. Повез подарочки. До связи, Леший.
— До связи, — ответил летчик и достал планшет, на котором нашел квадрат, куда пошел бомбить Степан Смолин.
Потом пощупал эфир, нашел друга и сказал ему, прижимая ларинги:
— Есть дело, Лунатик. Загляни в шестую комнату после раздачи подарков.
— Зачем?
— Девчонка там помирает.
— Вечно ты приключения на мою голову ищешь, Леший!
— Надо, Лунатик. Надо.
— Бензина у меня не хватит.
— Курс измени.
— На зенитки нарвусь.
— Я прошу тебя, — Алексей вздохнул. — Я бы сам успел, да лататься придется.
— Ладно. До связи.
* * *
И вот теперь, когда поседевший с годами Степан стоял рядом, Алексей догадался, почему так часто ловил на себе настороженный взгляд судьи, ранее непонятный ему.
Смолин посмотрел на часы.
— Ладно, Леший. Срываться надо — посадка кончается. Держи! — он протянул Щербаку руку и, простившись, пружинисто, по-спортивному зашагал к большому самолету, возле которого стоял экипаж в ожидании своего командира.
Щербаку очень хотелось посмотреть, как Лунатик подскочит со взлетной полосы, — у него ведь и раньше был коронный взлет, даже дух захватывало, — но решил не мучить себя напрасно и, ощущая отчего-то тоскливую пустоту в гулком сердце, поехал в суд.
* * *
Степан Смолин не спеша поднялся по трапу в самолет, угостил своих девочек апельсинами, что привело стюардесс в обычное смущение, потому что командир корабля баловал их. Потом он прошел в пилотскую кабину, снял галстук и, расслабившись, сел за штурвал.
— Коленька, — сказал он, включив радио и связавшись с диспетчерской аэропорта, — позвони по телефончику, — и назвал номер городского суда.
— Кого спросить, Степан Тимофеевич? — уважительно ответили из диспетчерской.
— Градову.
Смолин слышал, как диспетчер сопел, крутил диск, а потом ответил:
— На приговоре она.
— Ясно, Коленька. Через два часа я снова буду здесь. Сделай милость, приготовь машину. Хоть «санитарку», мне все равно. Очень нужно. До скорого, — и выключил радио.
Он сидел молча и вспоминал другого Лешего — молодого, бесстрашного, как тысяча чертей, который не один раз прикрывал его в воздушных атаках, который щедро подставлял свою машину, чтобы его приятель Лунатик не завалился, вытянул и чтобы, не дай бог, не оробел он от страха и непонятного чувства растерянности перед матерым фашистским асом. И уже совсем иные чувства, чуждые мужской сдержанности, несущие святую память фронтового братства, от которых в иную минуту почему-то скупо блеснет слеза и застучит закаленное сердце воина, стали терзать Смолина, настойчиво требуя соединиться с другим человеком, случайно забытым в бурном потоке будничной жизни.
«Но я еще жив, тысяча чертей! — подумал Степан Смолин. — Я знаю, что мне нужно делать».
* * *
А Щербак в этот час стоял в коридоре суда. Время тянулось мучительно долго, и неизвестность ожидания поглотила все его существо. Каныгин, заметив беспокойство друга, который часто поглядывал на часы, сказал:
— Теперь уже все равно, Фомич. Теперь по ихним часам живем.
— Такая нынче у нас планида, Федор.
— Я тут прикинул и с адвокатом по поводу нас посоветовался.
— О чем?
— Чтобы нас вместе держали. Вдвоем сподручнее.
— Типун тебе на язык!
— Лучше о плохом думать, Фомич. Тогда хорошее большей радостью обернется.
— Какой прогноз у твоего адвоката?
— Успокаивал. Божился, что три года не дадут.
Алексей промолчал, говорить не хотелось.
— Гляди, секретарша появилась, — сказал технорук. — Теперь, значит, скоро.