Спор о Белинском. Ответ критикам - [9]
По верному слову П. Н. Сакулина, я признаю Белинского «либералом весьма сомнительного свойства». Но это мое мнение все критики отвергают. Особенно Н. Л. Бродский. Казалось бы, ни в чем так не постоянен знаменитый критик, ни в чем он так не верен самому себе (насколько вообще можно говорить о постоянстве Белинского), как в своих политических воззрениях: единая яркая нить консерватизма проходит и через то, что он писал в 1831 году, и через то, что он писал в 1834 году, и через то, что он писал в 1837, 1839, 1843, 1846, 1848 годах. Но все это не убеждает Н. Л. Бродского, и он не считает Белинского в общественном смысле консервативным. В частности, по поводу «Литературных мечтаний» г. Бродский замечает, что я «напрасно киваю» на их последнюю страницу (ту, которая звучит сплошным панегириком и «царю-отцу», и «чадолюбивым монархам», и «мудрому правительству», и «благородному дворянству», и «знаменитым сановникам», являющимся посреди любознательного юношества в центральном храме русского просвещения возвещать ему священную волю монарха, указывать путь к просвещению в духе «православия, самодержавия и народности»): «еще С. А. Венгеров высказал догадку, что к ней приложил руку редактор Надеждин».
Во-первых, я на эту страницу, которую оба комментатора хотели бы вырвать из собственной книги Белинского, не «киваю», а без лукавства, прямо и определенно ее называю и цитирую; во-вторых, догадка г. Венгерова, к которой присоединяется и г. Бродский, столько же произвольна, сколько и праздна. Задаваться вопросом о том, как подобная страница попала к Белинскому, было бы уместно лишь в том случае, если бы в тексте его сочинений и писем она была инородным телом, если бы она противоречила другим его изъявлениям. Но ведь мы знаем, что и после, и раньше (в «Дмитрии Калинине») Белинский писал то же самое, высказывался в том же духе. Например, в письме 1837 года из Пятигорска к Д. П. Иванову (письме, которое я отчасти цитировал и в своем силуэте) совершенно же определенно славит Белинский русское правительство и поучает своего адресата, что «политика у нас в России не имеет смысла и ею могут заниматься только пустые головы»; что «Россия – еще дитя, для которого нужна нянька, в груди которой билось бы сердце, полное любви к своему питомцу, а в руке которой была бы лоза, готовая наказывать за шалости»; что «дать России в теперешнем ее состоянии конституцию – значит погубить Россию»: что «не в парламент пошел бы освобожденный русский народ, а в кабак побежал бы он, пить вино, бить стекла и вешать дворян, которые бреют бороду и ходят в сюртуках, а не в зипунах»; что у нас «все идет к лучшему» и причиною этому «установление общественного мнения… и, может быть, еще более того самодержавная власть», которая «дает нам полную свободу думать и мыслить, но ограничивает свободу громко говорить и вмешиваться в ее дела»; что блюсти цензуру и не допускать перевода некоторых иностранных книг – «это хорошо и законно с ее стороны, потому что то, что можешь знать ты, не должен знать мужик»; что если «правительство позволяет нам выписывать из-за границы все, что производит германская мыслительность, самая свободная, и не позволяет выписывать политических книг», то «эта мера превосходна и похвальна» (Письма, I, 91–94).
Что же, или и это письмо Белинского писал не Белинский, а кто-нибудь другой? Не построят ли наши ученые какой-либо «догадки» в этом направлении? Хорошо бы только обосновать ее во всяком случае не так, как это делает г. Бродский: предположение о принадлежности конца «Литературных мечтаний» не Белинскому, а Надеждину он находит «вполне возможным», потому что в это время кружок Станкевича, где вращался автор «Литературных мечтаний», «отрицательно относился к квасному патриотизму» и, значит, если Белинский, был «рупором кружка», он не мог быть «рапсодом формулы: „православие, самодержавие, народность“»… Эта аргументация была бы неотразимо-блестящей, но горе в том, что ведь это я, только я, считаю Белинского «рупором кружка», а не г. Бродский! Ведь последний, наоборот, пламенно выступал против этих слов моих и всеми силами защищал самостоятельность нашего критика. А теперь, забыв про это, он утверждает, что известных мыслей у Белинского не могло быть, так как-де их не мыслил кружок Белинского! Из кружка в порочный круг безвыходно попал здесь Н. Л. Бродский. И к этому его привело желание во что бы то ни стало признать Белинского либералом, т. с. прочесть то, чего последний не писал, и не читан, того, что он написал всеми буквами, явственно и несомнительно.
По своему обыкновению, г. Бродский для большей верности опирается и на авторитеты, подтверждающие либеральность Белинского: т. называет Герцена, Некрасова, Салтыкова и в другой плоскости, даже коменданта Петропавловской крепости и Дубельта, которые недаром же поджидали Белинского в «тепленький каземат и жалели, что смерть освободила его от тюрьмы».
Мое упорное нежелание считаться с авторитетами остается в силе. К тому же комендант Скобелева и Дубельта я даже не признаю в данном вопросе компетентными: я думаю, что 111 Отделение не всегда было право, что Дубелы иногда ошибался, что у русского правительства как у страха, были глаза велики. И неужто в самом деле статьи Белинского, даже если стоять на официальной точке зрения, справедливо «считались опасными, вредными»? Разве это не было одним из обычных недоразумений нашего строя? О письме к Гоголю я не говорю, – но ведь и в своем силуэте я признал его, наряду с некоторыми другими письмами, исключением из общего политического правила у Белинского.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
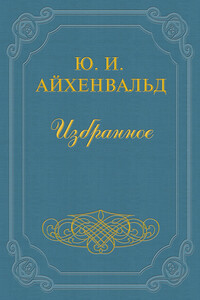
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
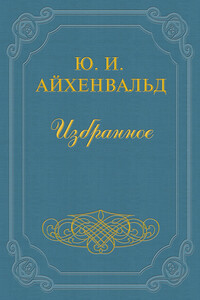
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
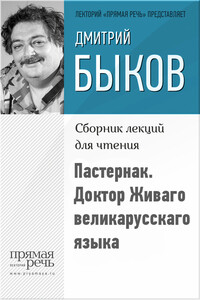
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.

В предлагаемой вниманию читателей книге собраны очерки и краткие биографические справки о писателях, связанных своим рождением, жизнью или отдельными произведениями с дореволюционным и советским Зауральем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.