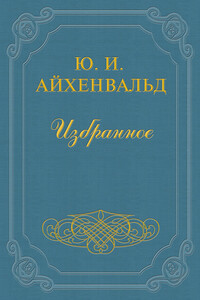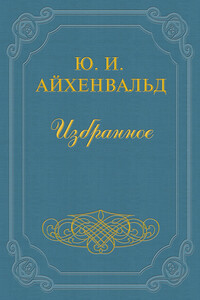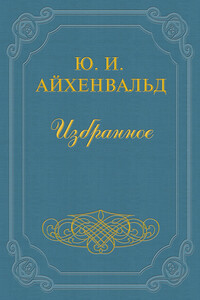Мой очерк о Белинском («Силуэты русских писателей», вып. III, изд. второе) вызвал очень резкие возражения и протесты. И поскольку они составляют проявление оскорбленной любви к Белинскому, я их понимаю, ценю, и мне самому грустно и тяжело, что своей отрицательной характеристикой знаменитого критика я сделал больно искренним почитателям его памяти. Но, разумеется, иначе поступить я не мог, потому что обязан был сказать свою правду, чего бы это ни стоило мне, чего бы это ни стоило другим.
Однако в том возмущении, какое встретил мой силуэт, большую роль сыграли также непомерный консерватизм и слишком почтительное отношение к авторитетам – то «литературное идолопоклонство», с которым боролся когда-то – оказывается, не вполне успешно – сам Белинский и о котором он так хорошо говорит в своих «Литературных мечтаниях»: «…мы и в литературе высоко чтим табель о рангах… Говоря о знаменитом писателе, мы всегда ограничиваемся одними пустыми возгласами и надутыми похвалами; сказать о нем резкую правду у нас – святотатство. И добро бы еще это было вследствие убеждения! Нет, это просто из нелепого и вредного приличия или из боязни прослыть выскочкою, романтиком… Знаете ли, что наиболее вредило, вредит и, как кажется, еще долго будет вредить распространению на Руси основательных понятий о литературе и усовершенствований вкуса? Литературное идолопоклонство! Дети, мы все еще молимся и поклоняемся многочисленным богам нашего многолюдного Олимпа и нимало не заботимся о том, чтобы справляться почаще с метриками, дабы узнать, точно ли небесного происхождения предметы нашего обожания».
Действительно, уже первый отклик на мою статью, фельетон П. Н. Сакулина в «Русских ведомостях» («Белинский – миф», от 3 окт. 1913 г.), содержит в себе прямое запрещение спорить о Белинском и относиться как-нибудь иначе к нему, чем благоговейно. «Его (Белинского) место давно уже определено нелицеприятным судом истории; его имя – свято. Давно уже Белинский находится за чертой досягаемости. Все, что можно было сказать в хулу Белинскому, уже сказано гораздо ранее г. Айхенвальда. Развенчать Белинского нельзя» – вот что заявляет уважаемый автор.
Слишком понятно, как в устах ученого странны, опасны и нелиберальны эти душные слова. Ведь для науки нет никого святого, наука не канонизирует, и заколдованным кругом, «чертой досягаемости» она из своих предметов не обводит ничего. Если считать Белинского иконой, святым и если думать, что история сказала о нем последнее, окончательное слово (хотя у науки последних слов не бывает), то в таком случае, но только в таком, я в самом деле виноват уже тем, что решился посмотреть на него собственными глазами. Если Белинскому можно лишь молиться («его имя свято», или, как до П. Н. Сакулина сказал Некрасов, «учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени»), то о нем вообще нельзя и разговаривать; и в таком случае, но только в таком, г. Сакулин со своей религиозной точки зрения прав, если моя характеристика для него не характеристика, а «хула», если моя статья для него не статья, а «поступок» (да еще «невероятный»), если я не просто свое мнение высказал, а «осмелился посягнуть» на тень прославленного критика, если я всем этим возбудил его «моральное негодование».
Правда, П. Н. Сакулин в только что появившейся второй статье своей «Психология Белинского» («Голос минувшего», IV, 1914 г.) говорит, что он «позволил себе» употребить слова, которые я выше подчеркнул, в ином смысле, именно в том, что хотя «можно и даже должно продолжать изучение» Белинского, «но в основном история уже произнесла свой приговор о нем»; и объявлять, будто Белинский – легенда, низводить его «на степень мелкой душонки и плохого журналиста» (квалификация не моя) так же странно, как нелепо было бы «сводить к нулю Ломоносова или Пушкина». Из этой поправки видно, что в первый раз П. Н. Сакулин свою подлинную мысль выразил очень дурно, совершенно не теми словами. Кроме того, в «Голосе минувшего» он не объяснил, как же надо в «Русских ведомостях» понимать «хулу», «невероятный поступок», «осмелился посягнуть», «моральное негодование»: этих выражений своих г. Сакулин и не истолковал и не взял обратно.
Н. Л. Бродский в статье «Развенчан ли Белинский?» («Вестник воспитания», I, 1914) тоже называет мои обвинения последнего «кощунственными», точно Белинский – Бог или божествен.
Свободу исследования почти все оппоненты мои ограничивают и тем, что мои взгляды на Белинского пытаются опорочить ссылкой на авторитеты, т. е. на тех, по большей части выдающихся и знаменитых людей, которые Белинского прославляли. Так, П. Н. Сакулин напоминает, что славу нашего критика творили Станкевич, Герцен, Тургенев, Кавелин, кн. В. Ф. Одоевский, Некрасов, Ап. Григорьев и мн. др.: «все это – люди, которых из десятка не выкинешь»; в опровержение моей мысли об умственной несамостоятельности Белинского он, между прочим, апеллирует даже и к школьному учителю его, М. М. Попову, и к «постороннему наблюдателю», Лажечникову, которых «еще в детстве поражал» Белинский «упорной самостоятельностью характера, стойкостью и критической настроенностью своего ума». Так, г. Евг. Ляцкий в статье «Господин Айхенвальд около Белинского» («Современник», I, 1914) сообщает, что среди людей, пламенно и любовно относившихся к Белинскому, «были лица, во всяком случае не уступавшие» мне «в критической проницательности и чуткости» (Некрасов, Тургенев, Герцен, Гончаров). Так, Н. Л. Бродский, хотя и «проходит мимо» отмеченного П. Н. Сакулиным признания учителя М. М. Попова, но «проходит мимо» таким образом, что об этой педагогической оценке все-таки упоминает, а главное, свое убеждение в умственной независимости Белинского он тоже обосновывает цитатами из Станкевича, Кавелина, Панаева, Клюшникова, Одоевского, Тургенева, Бакунина. Правда, г. Бродский предупреждает меня, что он это делает не «из почтительного реверанса перед авторитетами», а потому, что слова лиц, непосредственно общавшихся с Белинским, «на корню видевших его», должны звучать для меня гораздо убедительнее, чем только его, г. Бродского, собственные слова, его личное мнение, которое-де может показаться мне «бездоказательным, „субъективным“, пристрастным».