Спор о Белинском. Ответ критикам - [5]
Действительно, здесь есть недодуманность, – но, кажется, не с моей стороны. Если я отрицаю «триединую формулу», то я обязан принять публицистическое отношение Белинского к искусству: вот та умственная узость, которой хотел бы от меня г. Ляцкий; ее отсутствие – вот что кажется ему чем-то необъяснимым и недодуманным. Что можно исповедовать политический либерализм и в то же время не требовать и не хотеть от искусства публицистики, этого не допускает г. Ляцкий. Что между равнодушием к общественности и любовью к «идеалу чистого искусства» (точно есть какое-нибудь другое) не существует внутренней и необходимой связи – эта азбука и до сих пор остается недоступной для обитателей идейной тесноты. И так как я безусловно не причисляю к ним Е. А. Ляцкого, то я и удивляюсь, как это он «берет на себя смелость» утверждать то, что утверждает.
Мои оппоненты страстно оспаривают и то мое указание, что Белинский не был последовательно либерален не только в том широком смысле, о котором я говорил выше, но и в специальной сфере общественности. На мои слова: «вопреки молодости, нарушая ее психологические нравы, он не с протеста, не с отрицания начал, а с политических утверждений»… и на другие мои слова: «при первом же своем серьезном выступлении, в знаменитых „Литературных мечтаниях“… в тяжелую и темную пору нашей жизни… юноша Белинский, не задумываясь, делается рапсодом» уваровской формулы, «знаменитых сановников», «просвещенного и благодетельного правительства», – на это все критики, кроме г. Ляцкого, в один голос и прежде всего отзываются, что я забыл про «Дмитрия Калинина» (П. Н. Сакулин употребляет даже такое выражение, что я об этой драме и «не заикаюсь»). Н. Л. Бродский называет пьесу Белинского «пламенным памфлетом против „официальной“ действительности»; г. Иванов-Разумник находит, что в «Дмитрии Калинине» Белинский выражает «самые „протестующие“ взгляды»; критик «Русского богатства» (II, 1914 г.) г. А. Дерман мою мысль, что Белинский начал с политических утверждений, тоже опровергает ссылкой на его трагедию и категорически осведомляет, что она «послужила причиной увольнения автора из университета».
Мне неизвестно, является ли по своей научной специальности историком литературы г. Дерман; если – нет, то вполне простительно, что он не читал или не запомнил такого ничтожного литературного памятника, как «Дмитрий Калинин», и с чужого голоса передает миф о причине увольнения Белинского из университета. Но мне хорошо известно, что как историки литературы достойно работают у нас в науке П. Н. Сакулин, Иванов-Разумник, Ч. В-ский, Н. Л. Бродский. И поэтому то, что они опираются в данном случае на «Дмитрия Калинина», удивляет меня и огорчает несказанно. Разберемся.
Н. Л. Бродский полагает, будто упрек в неупоминании «Дмитрия Калинина» я, быть может, попытаюсь отразить ссылкой на то, что не имел в виду чисто литературных произведений Белинского, а говорил о нем лишь как о критике. Этот мой возможный аргумент, по г. Бродскому, отпадает, гак как в своем силуэте я касался-де Белинского целиком, – да так и надо делать: ведь не писал же я сам «только о стихотворениях Тютчева – указывал и на политические статьи его» (мимоходом исправлю фактическую ошибку моего рецензента: я не указывал на политические статьи Тютчева, а разбирал только стихотворения его, между прочим, и политические; таким образом, я не заслужил здесь, чтобы мне ставили в пример меня самого).
Почтенный критик не угадал, как я буду защищаться. Если бы я хотел прибегнуть под сень формальных доводов, я мог бы опереться на то, что в статье я говорил о «политических утверждениях», – а все согласятся, что уж во всяком случае политических отрицаний в «Дмитрии Калинине» нет; что я говорил о «первом серьезном выступлении», – а все согласятся, что детский, ниже литературной критики стоящий, наивный «Дмитрий Калинин» несерьезен. Но я не прикрою себя этими соображениями, а напомню, что трагедия Белинского по существу, по своей идее и по своему центральному содержанию вовсе не представляет собою общественного протеста. Не в этом смысл пьесы, не в этом ее пафос, не этим она вооружила против себя цензоров. Там есть отдельные риторические филиппики против рабства, против помещичьей тирании, но самая сильная из них, слова Дмитрия: «Кто дал это гибельное право – одним людям порабощать своей власти волю других, подобных им существ, отнимать у них священное сокровище – свободу? Кто позволил им ругаться правами природы и человечества? Господин может, для потехи или для рассеяния, содрать шкуру с своего раба; может продать его как скота, выменять на собаку, на лошадь, на корову, разлучить его на всю жизнь с отцом, с матерью, с сестрами, с братьями и со всем, что для него мило и драгоценно!»… – эта горячая отповедь героя сопровождается и охлаждается следующим примечанием Белинского: «К славе и чести нашего мудрого и попечительного правительства, подобные тиранства уже начинают совершенно истребляться. Оно поставляет для себя священнейшею обязанностью пещись о счастии каждого человека, вверенного его отеческому попечению, не различая ни лиц, ни состояний. Доказательством сего могут служить все его поступки и, между прочим, Указ о наказании купчихи Аносовой за тиранское обхождение со своею девкою и городничего за допущение оного, напечатанный в 77-м No „Московских ведомостей“ за 1830 год, 24 день сентября. Этот указ должен быть напечатан в сердцах всех истинных россиян, умеющих ценить мудрые распоряжения своего правительства, напоминающие слова нашего знаменитого, незабвенного Фон-Визина: „Где Государь мыслит, где знает Он, в чем его истинная слава, – там человечеству не могут не возвращаться права его; там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего счастья и выгод в том, что законно, и что угнетать рабством себе подобных есть беззаконно“».

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
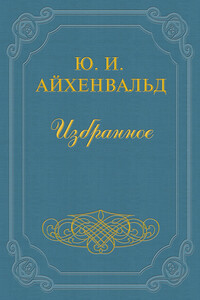
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.
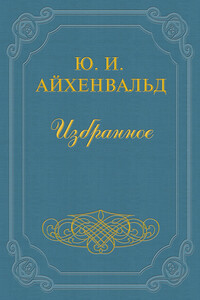
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».

НОВАЯ КНИГА знаменитого кинокритика и историка кино, сотрудника издательского дома «Коммерсантъ», удостоенного всех возможных и невозможных наград в области журналистики, посвящена культовым фильмам мирового кинематографа. Почти все эти фильмы не имели особого успеха в прокате, однако стали знаковыми, а их почитание зачастую можно сравнить лишь с религиозным культом. «Казанова» Федерико Феллини, «Малхолланд-драйв» Дэвида Линча, «Дневная красавица» Луиса Бунюэля, величайший фильм Альфреда Хичкока «Головокружение», «Американская ночь» Франсуа Трюффо, «Господин Аркадин» Орсона Уэлсса, великая «Космическая одиссея» Стэнли Кубрика и его «Широко закрытые глаза», «Седьмая печать» Ингмара Бергмана, «Бегущий по лезвию бритвы» Ридли Скотта, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони – эти и многие другие культовые фильмы читатель заново (а может быть, и впервые) откроет для себя на страницах этой книги.

Почему сиквелы пишутся, и их становится все больше? Почему одни дописывают свои собственные произведения, а другие берутся за чужие? Можно ли считать сиквел полноценной литературой, а не «пришей кобыле хвост»? И почему так получается, что сиквел — чаще второе, нежели первое?Статья 2000 года, поэтому ни к «По ту сторону рассвета», ни к «Cердцу меча» (которые, впрочем, римейки, а не сиквелы) отношения не имеет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.