Спор о Белинском. Ответ критикам - [11]
Простим тон этой пошлой буффонады, развязность этого «милостивого государя» и вникнем в дело по существу. Если бы мои ожидания от Белинского взаправду были «равносильны» требованию, чтобы Аристотель обладал научными знаниями XX столетия, то это свидетельствовало бы о такой моей непроходимой глупости, что непроходимой глупостью было бы спорить со мною. Ведь только глупец оспаривает глупца. К счастью для нас с г. Дерманом, положение вещей не таково. Я, прежде всего, спрашиваю с Белинского не фактических знаний, а вкуса и оценки. И, затем, я их спрашиваю именно в пределах его эпохи, по мере исторической возможности. Разве, действительно, в то время, когда жили Пушкин и Баратынский, исторически невозможно было их понять и оценить? Разве не было тогда людей, которые принимали и Татьяну, и мудрость Баратынского, и многое другое, чего не принял Белинский? Я даже не думаю, что для этого надо было быть великим человеком; но, уж во всяком случае, те, которые считают Белинского великим критиком, гениальным критиком, которые безвкусно называют его «великий критик земли русской», – уж они-то наверное не имеют права его ошибки оправдывать ссылкой на его время: ведь тем-то великий и велик, что он больше своих современников. Если Белинский – только сын своей эпохи, рядовой представитель ее, страдающий ее естественной близорукостью, то за что же его так увенчивать? Недаром его панегиристы, противореча строгости своего же историзма, часто указывают, что Белинский стоял именно впереди своего времени. Так, сам г. Дерман, защищающий Белинского и Аристотеля от антиисторичных нападок моих и родственного мне по уму гимназиста VI класса, восторженно отмечает «поистине пророческую гениальность в таком чуде критического прозрения Белинского, как предсказание славы Достоевскому по его первой повести», чуждой в своем стиле господствовавшим формам. Что же, можно, значит, пророчески упреждать историю, гениальной мыслью преодолевать ее рамки, совершать «чудеса критического прозрения»?
Правда, выбранная г. Дерманом иллюстрация к этому тезису крайне неудачна и говори! не за Белинского, а против него. Во-первых, г. Дерман, раз уж он принял любезное участие в специальном споре, должен бы знать (или помнить), что Достоевского открыли Григорович и Некрасов, а не Белинский: это они, очарованные повестью юного автора, в памятную русской литературе белую майскую ночь прибежали к Достоевскому со словами восторга; это Некрасов принес Белинскому рукопись «Бедных людей» и «закричал»: «Новый Гоголь родился!», на что знаменитый критик «строго» ответил: «У вас Гоголи-то как грибы растут», – и лишь после этого, прочитав рукопись, он и сам пришел в волнение и восхищение. Во-вторых, г. Дерман должен бы знать (или помнить), что в печати Белинский дал о «Бедных людях» довольно умеренный отзыв, совсем не такой, как в устной беседе с Достоевским. В-третьих, г. Дерман должен бы знать (или помнить), что Белинский со свойственной ему шаткостью от своей высокой оценки Достоевского скоро отказался, в ней раскаялся и за нее назвал себя «ослом»; вот что писал он Анненкову: «Он (Достоевский) и еще кое-что написал после того, каждое его произведение – новое падение. В провинции его терпеть не могут, в столице отзываются враждебно даже о „Бедных людях“. Я трепещу при мысли перечитать их, так легко читаются они! Надулись же вы, друг мой, с Достоевским-гением! О Тургеневе не говорю – он тут был самим собою, а уж обо мне, старом черте, без палки нечего и толковать. Я, первый критик, разыграл тут осла в квадрате» (Письма, III, 338). Это – его последнее слово о Достоевском (как и все это письмо, к несчастью, одно из последних предсмертных слов Белинского). Где же здесь гениальность, где же пророчество, где критическое чудо?
В своей работе я, по г. Дерману, «натворил нечто невообразимое»; грех против элементарного историзма, даже «комическую наивность» он усматривает, например, в таких строках моей статьи: «Если Белинский – энтузиаст, то почему же, смущенно спрашиваешь себя, у него так много риторики, и гуслярного звона, и раскрашенного стиля?.. Почему свою увлеченность он выражает не в задушевной и дорогой простоте, почему о любимом он говорит неестественно''» На все эти вопросы мои г. Дерману просто «совестно отвечать», так как, если бы свою совестливость он преодолел, то ответы заключались бы в «азбучно-элементарных указаниях на то. что риторическое для наших дней было абсолютно адекватно энтузиазму Белинского 75 лет назад», что «тогда не было и быть не могло дорогой простоты стиля Чехова», что Белинский не мог же писать «языком Бориса Зайцева».
Вы видите, историзм отплатил своему бескорыстному ревнителю черной неблагодарностью: г. Дерман не долго думая (именно потом что не долго думая) впадает в такую историческую ошибку, которая была бы чудовищна, если бы она не была смешна. Справедливо полагая, что Белинский не мог дожидаться Чехова и Зайцева, мой рецензент забывает только… о Пушкине. Я, обвиняемый в антиисторизме, знаю, однако, историю, помню хронологию и отдаю себе ясный отчет в том, что во времена Белинского и до него был уже Пушкин, который свою прозрачную прозу, свои рассказы и критические статьи запечатлел хрустальной простотой, выражал свой энтузиазм, африканскую огненность своей натуры без риторики и над всякой риторикой от души смеялся; я, осуждаемый за пренебрежение к исторической перспективе, не упускаю из виду, что естественному стилю Белинский мог учиться не только у Пушкина, но даже у некоторых своих предшественников, например у Киреевского, очень далекого от напыщенности «Литературных мечтаний», я, словом, все это и многое другое учитываю, а защитник перспективы, друг истории, этим пренебрегает и, как цитированный им гимназист VI класса, в своем упрощенном понимании историзма констатирует лишь то несомненное, что современниками Белинского не были Чехов и Зайцев.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
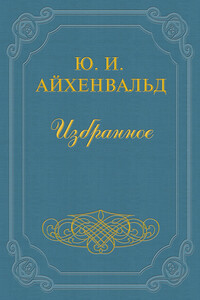
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
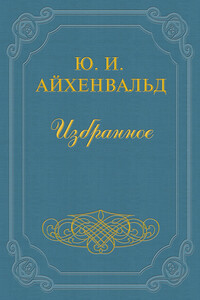
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
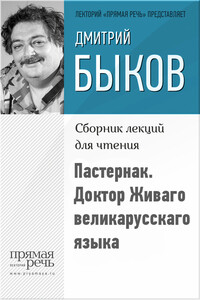
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.

В предлагаемой вниманию читателей книге собраны очерки и краткие биографические справки о писателях, связанных своим рождением, жизнью или отдельными произведениями с дореволюционным и советским Зауральем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.