Спор о Белинском. Ответ критикам - [14]
Я перейду теперь к разбору тех опровержений, которыми оппоненты встретили мои указания на отдельные эстетические ошибки Белинского.
Н. Л. Бродский и Ч. В-ский возражают на мою ссылку, что Белинский, по собственному признанию, «понимающий и ценящий поэтический талант» Лермонтова, как раз оттого и предлагает ему не вносить в собрание своих сочинений «Ангела» и «Узника» – того, как выразился я, «без чего Лермонтов не Лермонтов». С моей оценкой «Ангела» г. В-ский согласен; но вот и он, и г. Бродский все-таки находят, что я не прав; г. Бродский сенсационно, курсивом, изобличает меня даже в том, что к своему выводу я пришел, «не дочитав рецензии Белинского до конца». А этот конец (мне, само собою разумеется, ведомый столько же, сколько и отделенное от него несколькими строчками начало) гласит, что «эти два стихотворения недурны, даже хороши, но только не превосходны, а без этого не могут быть хороши, когда под ними подписано имя г. Лермонтова».
Не говоря уже о наивности такой скалы (недурное, хорошее, превосходное), – конец рецензии расшатывает ли сколько-нибудь ее начало, ее гнетущую суть – надежду, что Лермонтов вычеркнет из своей поэзии «Ангела»? И пусть Белинский, как отмечает г. Ч. В-ский, угадал, что названные два стихотворения – «очень ранние» у Лермонтова; пусть он всегда был противником таких предназначенных для широкой публики собраний, в которые входит каждая строчка писателя, – все это не имеет никакого отношения к делу и ничуть не колеблет приведенного мною факта, что знаменитый критик не считал для Лермонтова характерным и достойным «Ангела» (и «Узника») Дополнением к печатному отзыву об этих произведениях и оправданием слов моих, а не гг. Бродского и В-ского, является следующий отрывок из письма Белинского – о тех же «Ангеле» и «Узнике»: «Стихи Лермонтова недостойны его имени, они едва ли и войдут в издание ею сочинений… и я их ругну» (Письма, II, 70).
Кстати, он же и «Последнее новоселье» Лермонтова называл «гадостью» (Письма, II, 249).
Одно из грубых и резких проявлений недодуманности Белинского я усмотрел в его отношении к пушкинской Татьяне. Ее нравственной сущности он совсем не принимает; ее последние слова, обращенные к Онегину, вызывают у критика почти глумление («конец венчает дело» и т. д.). В период первой встречи с Онегиным Татьяна для Белинского – «нравственный эмбрион»; а то, что «Татьяна верила преданьям простонародной старины, и снам, и карточным гаданьям, и предсказаниям луны», – это он считает «грубыми, вульгарными предрассудками». Вот здесь и прерывает меня г. Ч. В-ский, утверждая, что у Белинского «сказано так, да не совсем так», – и он приводит известную цитату (выпишу необходимую часть ее): «Татьяна возбуждает не смех, а живое сочувствие… осталась естественно простой в самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее действительность… Это дивное соединение грубых, вульгарных предрассудков с страстью к французским книжкам и с уважением к глубокому творению Мартына Задеки возможно только в русской женщине». «Это не „постыдная непонятливость“ (как я, Айхенвальд, назвал отклик Белинского на пленительные стихи Пушкина о суевериях Татьяны), „а восхищенное любование девушкой, в которой получала неожиданную прелесть и дань предрассудкам“», – говорит мой рецензент. Но я совершенно не понимаю, где в словах Белинского нашел г. Ч, В-ский «восхищенное любование». Так как над «уважением» Татьяны к Мартыну Задеке (по Пушкину – ее любимцу) знаменитый критик иронизирует, так как и французские книжки героини тоже не пользуются его симпатией, то вполне ясно, что под «дивным соединением» надо понимать у него «диковинное, странное соединение», и это последнее Белинский признает возможным только в русской женщине. А характерные черты русской женщины, и в частности Татьяны, сказались для него в ее объяснении с Онегиным: пламенная страсть, задушевность простого, искреннего чувства, чистота, святость наивных движений – и резонерство, оскорбленное самолюбие, тщеславие добродетелью, «под которой замаскирована рабская боязнь общественного мнения», и «хитрые силлогизмы ума, светской моралью парализировавшего великодушные движения сердца». И то, что, по мнению Татьяны, она более способна была внушать любовь, когда моложе и «лучше, кажется, была», – это заставляет Белинского насмешливо воскликнуть: «Как в этом взгляде на вещи видна русская женщина!» И непростительной глупостью, заимствованной «из плохих сантиментальных романов», просвещенный и передовой критик считает то убеждение Татьяны, о котором он иронически замечает: «Ведь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность!» (а что же еще нужно? чего еще требовали друг от друга Ромео и Джульетта?). И если бы г. В-ский свою цитату несколько продолжил, он вынужден был бы привести слова Белинского о том, что в Татьяне «ум ее спал, и только разве тяжкое горе жизни могло потом разбудить его, – да и то для того, чтоб сдержать страсть и подчинить ее расчету благоразумной морали»; или слова о том, что она – «создание страстное, глубоко чувствующее и в то же время не развитое, наглухо запертое в темной пустоте своего интеллектуального существования»; или слова о том, что она была «нравственно-немотствующая» и потому ее письмо, «прекрасное и теперь», все-таки «уже отзывается немножко какой-то детскостью», и хотя «сам поэт, кажется, без всякой иронии, без всякой задней мысли и писал и читал это письмо», «но с тех пор много воды утекло». Впрочем, у Белинского, всегда роскошествующего противоречиями, есть и другие, более достойные речи о Татьяне; но едва ли не самое задушевное мнение его о ней мы встречаем в письме к Боткину (II, 294), где он говорит нечто такое, на что издатель его переписки накидывает целомудренную и все же прозрачную вуаль из точек: «О Татьяне тоже согласен: с тех пор, как она хочет век быть верною своему генералу……ее прекрасный образ затемняется». Только нецензурное и только «благоразумную мораль» воспринимает истолкователь Пушкина в этой возвышенной исповеди чувства и чести: «Я вас люблю… но я другому отдана, – я буду век ему верна». Своей невесте – конечно, почитательнице Татьяны – Белинский выговаривает, что она горячо заступается за «эту прекрасную россиянку», и всегда это заступничество его «бесило и опечаливало» (Письма, III, 23, 41). В разборе «Полтавы» он, рисуя облик Марии, вопрошает: «Что перед ней эта препрославленная и столько восхищавшая всех и теперь еще многих восхищающая Татьяна – это смешение деревенской мечтательности с городским благоразумием?» Где же во всем этом «восхищенное любование»? Нет, душу пушкинской поэзии, ее нравственный идеализм, воплощаемый Татьяной, Белинский в слепоте своей отверг,

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
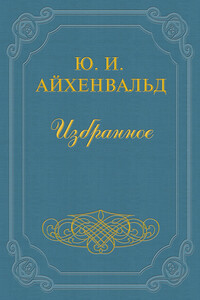
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
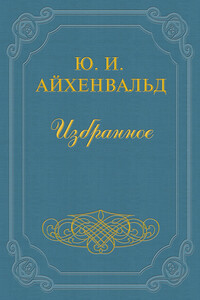
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.

«Одинокое произведение Грибоедова, в рамке одного московского дня изобразившее весь уклад старинной жизни, пестрый калейдоскоп и сутолоку людей, в органической связи с сердечной драмой отдельной личности, – эта комедия с избытком содержания не умирает для нашего общества, и навсегда останется ему близок и дорог тот герой, который перенес великое горе от ума и оскорбленного чувства, но, сильный и страстный, не был сломлен толпою своих мучителей и завещал грядущим поколениям свое пламенное слово, свое негодование и все то же благородное горе…».

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
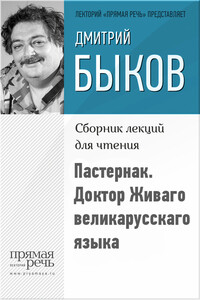
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.

В предлагаемой вниманию читателей книге собраны очерки и краткие биографические справки о писателях, связанных своим рождением, жизнью или отдельными произведениями с дореволюционным и советским Зауральем.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.