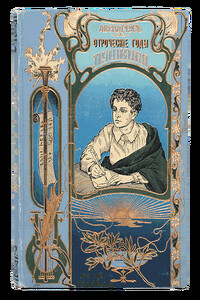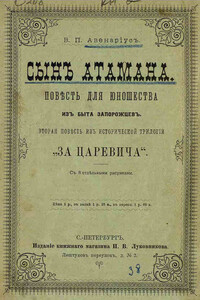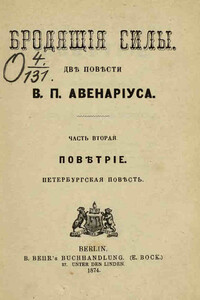— Душенька, нет ли у вас здесь тараканов? Швейцарка посмотрела на нее с непритворным удивлением.
— Тараканов?
— Да, прусаков, в кухне, что ли?
— Нет, фрейлейн, мы слишком опрятны, чтобы у нас могли завестись эти грязные твари.
— Как различны вкусы! А я знаю одного господина, который от них без ума. Так не достанете ли вы мне их?
— Да на что же они вам?
— Это мое дело. После увидите. Достанете?
— Достать-то почему не достать? Здесь недалеко, у соседей…
— Так, пожалуйста, Мари. Да смотрите, побольше, полную коробку. И никому не сказывайте.
— На этот счет будьте покойны. Куда же прикажете доставить вам их?
— Да мы сейчас чай будем пить; вызовите меня.
— Слушаю-с.
Качая головой, швейцарка отправилась исполнять странное поручение.
За чаем Наденька была развязнее чем когда-либо, шутила с молодыми людьми, шушукалась с Моничкой. В дверях показалась Мари и кивнула ей головой. Гимназистка вскочила и торопливо последовала за нею из комнаты.
— Что ж, достали?
— Как же, вот…
Посланница подала ей небольшую коробочку. Наденька подняла осторожно уголок последней: оттуда высунулось несколько подвижных усиков.
— Отлично! Как я вам благодарна, Мари! Теперь еще одно: есть у вас свежее тесто?
— Да вы никак хотите из них пирог спечь?
— Угадали.
Мари отвернулась с отвращением.
— Тьфу, мерзость! И вы едите тараканов? У вас это национальное блюдо?
— Нет, я-то не ем, — залилась в ответ Наденька.
— Так тот господин, про которого вы сказывали?
— Не знаю, ест ли он их, но он говорил, что очень любит тараканов; вот я и хочу сделать ему сюрприз.
— Кто ж это? Из наших пансионеров?
— Да, знаете, этот длинный, бледный.
— Г-н Ластов?
— Он самый.
— Нет, фрейлейн, в таком случае я это никак не могу допустить… Отдайте мне назад коробку, я выброшу ее.
— Да, милая моя, я ведь хочу ему только доказать, как тараканы противны…
— Но и других бы вместе с ним стошнило. И что за слава, посудите, пошла бы на наш отель, если б у нас допускались подобные вещи?
Наденька сделала плачевную гримасу.
— Но как же мне быть, душенька?
— Если г-н Ластов так любит тараканов, то отдайте их ему в коробке.
— Да они, понимаете, должны быть ему сюрпризом… Ах, знаете что, Мари? Подсуньте-ка их ему в карман! Вам оно удобнее: как станете обносить чай…
— Нет, фрейлейн, увольте меня.
— Марихен, миленькая, пожалуйста!
— Ответственность вы возьмете на себя?
— Всю, всю.
— Ну, хорошо. Не обвязать ли коробку розовым шнурком?
— Ах, да, непременно. Надо бы и надпись сделать. Где бы взять чернил да перо?
— Пойдемте в контору.
Минуты две спустя Наденька сидела опять в столовой, возле Монички. Вошедшая вслед за нею Мари наклонилась через плечо Ластова, чтобы поставить на стол хлебную корзинку. Когда затем поэт стал доставать из кармана платок, то ощупал там нечто четырехугольное. Вытащив это нечто на свет, он с недоумением увидал в своих руках голубую коробочку, обвязанную розовою лентой; на крышке были начертаны красивым женским почерком слова: "Прекраснейшие произведения природы". С любопытством развязал он ленту и раскрыл коробку… Вкруг стола поднялся общий гвалт:
— Shwaben, Russen!
По скатерти разбежалось стадо прусаков. Более других, однако, перепугалась сама виновница маленькой катастрофы, Наденька: ей не без основания представилось, что буря всеобщего недовольства сейчас вот разразится над нею… К счастью ее, Ластов, заметивший ее крайнее смущение, великодушно отвел роковой удар с больной головы на свою — здоровую. Он поспешил переловить краснокожих беглецов, а потом обратился к присутствующим с извинительным спичем: "Он, дескать, натуралист и приобрел прусаков для физиологических опытов". Гимназистка вздохнула свободнее и, чтобы отблагодарить любезного молодого человека, была с ним целый вечер необычайно ласкова. Правоведу это нимало не приходилось по сердцу, и когда стали расходиться, он взял приятеля под руку и вывел его на улицу. Рука об руку побрели они вниз по аллее.
— Мне надо серьезно переговорить с тобою, — начал Куницын. — Ты, cher ami, забываешь наш гисбахский уговор, а уговор лучше денег.
— Как так забываю?
— Да так: ты вплотную ухаживаешь за Наденькой.
— Ухаживаю? Ничуть. Что я хаживал с нею, например, к Уншпуннену — не отрекаюсь, но хаживать далеко еще не значит ухаживать. Да и кто ж тебе велел давеча бросить нас?
— Кто! Разве ты не видел, как эта Саломонида почти насильно взяла у меня сюртук да шляпу и давай Бог ноги? Поневоле побежишь за нею. Да еще и угощай ее: выпила на мой счет три чашки шоколаду.
— Ну, за то я тебе, пожалуй, заплачу. Ведь, по-твоему, и в этом случае виноватый — я?
— Разумеется, ты. Ты не смел покидать ее…
— Да если она меня покинула? И кто вас знает: может быть, вы даже заранее сговорились с нею; я имею, в свою очередь, полное право ревновать к тебе.
— А что ж, — заметил политичный правовед, — ведь и Моничка в своем роде весьма и весьма аппетитный кусочек: ножка самая что ни есть миниатюрная, a coup de pied[79] высочайший. Умом она также перещеголяла Наденьку: отпускает такие каламбуры и экивоки…
— Так она тебе нравится?
— Да как же не нравиться…
— Так вот что: по старой дружбе я готов принесть тебе жертву — поменяемся нашими предметами; ты возьми себе Моничку, я возьму Наденьку.