Советская литература. Краткий курс - [17]
Здесь многое плохо — и эта «розовая водь» (бессуффиксное словообразование становится у позднего Есенина навязчивым до полного дурновкусия — вся эта водь, стынь, звездь и пр. выглядит уже не языкотворчеством, а насильственным втискиванием слов в строчки), и кокетливое «мял цветы», и звенящая лебяжья шея — произвол вместо лирической дерзости, потому что никакая шея, хотя бы и лебяжья, не звенит, и глагол нужен был другой, но его лень было искать. Нет тут и единого лирического настроения — «не в силах скрыть моей тоски» и «счастлив тем, что я дышал и жил»: синтеза нет, есть, что называется, два в одном — посреди трагического лирического монолога герой начинает искусственно бодриться да еще оправдывать свои художества тем, что не бил зверья по голове (а по другим местам типа можно). В общем, двадцать четвертый год есть двадцать четвертый год. Но никто из русских поэтов не дал более четкой формулы русского братства, основанного на единстве участи: «оттого и дороги мне люди, что живут со мною на Земле». Тоже, знаете ли, не шутка — и жить на Земле, и так сказать.
ОЧКАРИК И КЕНТАВРЫ
Исаак Бабель (1894―1940)
Из всех русских литературных загадок XX века Бабель — самая язвящая, зудящая, не дающая жить спокойно. Потому так и жалко двадцати четырех пропавших папок его архива, что в них, может, был ответ. На самом деле ясно, что не было, — прятались там, может, как в архиве Олеши, крошечные, по пять-шесть строчек, записи о том, как он не может больше писать. Сделанное Бабелем — вещь в себе, законченный герметичный корпус текстов, состоящий из трех циклов (ранние вещи не в счет). Цикл первый — конармейский, второй — одесский, третий — известный нам очень фрагментарно сборник рассказов о коллективизации и примыкающие к нему интонационно и стилистически поздние рассказы о Гражданской войне (лучший из них — «Иван-да-Марья»).
С этим и приходится иметь дело. Стало общим местом утверждение, что Бабеля навеки поразили два мира — мир его родной Одессы, биндюжников, бандитов, матросов, проституток, и мир Конармии времен польского похода, закончившегося, кстати сказать, полным провалом: разоренные еврейские местечки, могучие начдивы, кони, с которыми он так толком и не научился управляться… На первый взгляд в этих двух мирах много общего: и там и тут обитают бедные и слабые еврейские мудрецы, на глазах у которых утверждает себя пышная и цветущая ветхозаветная жизнь. Типа «слабый человек культуры», как назвал эту нишу Александр Эткинд, наблюдает за мощной растительной жизнью плоти, за соитиями и драками простых первобытных существ — женщин с чудовищными грудями, при скачке закидывающимися за спину, и мужчин с гниющими ногами и воспаленными глазами. И в самом деле между каким-нибудь бабелевским гигантским Балмашевым или Долгушовым и столь же брутальным Менделем Криком или Савкой Буцисом не такая уж большая на первый взгляд разница: сидит хилый, любопытный ко всему, хитрый очкарик и с равным восхищением наблюдает аристократов Молдаванки, «на икрах которых лопалась кожа цвета небесной лазури», и конармейских начдивов, чьи ноги похожи на двух девушек, закованных в кожу. Тут можно было бы порассуждать о том, какая вообще хорошая проза получается, когда слабые люди пишут о сильных. Вот когда сильные про сильных — это совсем не так интересно. Джек Лондон, например, или Максим Горький. А вот когда книжный гуманист Бабель про начдивов и бандитов — тут-то и начинается великая проза, легко говорить банальности в таком духе. На самом деле трудно выдумать что-нибудь более далекое от реальности. Два главных мира бабелевской прозы — Одесса, где орудует Беня Крик со товарищи, и Западная Белоруссия, через которую проходит с боями Конармия, — не просто несхожи, а друг другу противоположны. Обратите внимание, граждане мои и гражданочки, вот на какой момент: конармейские рассказы Бабеля многими признаются за бесспорные шедевры, но как-то в наше время не читаются, да и вообще слава их бледнеет на фоне триумфального успеха немногочисленных, общим числом меньше десятка, одесских рассказов про Беню Короля. Про Остапа Бендера написано в сто раз больше — два полновесных романа общей толщиной в семьсот страниц, а ведь Беня Крик ничуть не уступает ему ни в яркости, ни в славе, ни в нарицательности. Самая ставящаяся во всем мире русская пьеса двадцатых годов — бабелевский «Закат», исправно переживший все «Бронепоезда» и перегнавший по количеству экранизаций даже «Дни Турбиных». Да и поставьте, наконец, эксперимент на себе: как приятно в тысячный раз перечитывать «Одесские рассказы» и какая мука освежать в памяти «Конармию», даже самые светлые вещи оттуда вроде «Пана Аполека»! Невозможно же. Ужас. Как сам автор сказал: «И только сердце мое, обагренное убийством, скрипело и текло». Все скрипит и течет, каждое слово через силу. И ведь не сказать, чтобы в «Одесских рассказах» меньше было натурализма. Еще и больше, пожалуй. Тут и Цудечкис, стирающий свои носочки, и Любка Казак с такой же чудовищной грудью, как у конармейской женщины Сашки. И проститутки одесские точно так же говорят «Сделаемся», как эта Сашка, когда ей надо сосватать жеребца — покрыть ее кобылу. Но вот поди ж ты — одесскую прозу Бабеля читаешь с наслаждением, а конармейскую с ужасом, в обоих случаях отдавая должное таланту и новаторству повествователя. Не сказать даже, чтобы так уж различался стиль: тот же замечательный, счастливо найденный гибрид ветхозаветной мелодики, ее скорбных повторов и постпозитивных притяжательных местоимений («сердце мое», «чудовищная грудь ее») с французскими натуралистами, привыкшими называть своими именами то, о чем прежде говорить не позволялось. Возьмите любой достаточно радикальный фрагмент прозы Золя — из «Накипи», где служанка рожает в горшок, или из «Нана», где куртизанка наряжает девственника в свою ночную рубашку с рюшечками, — перепишите в библейском духе, с интонацией скорбного раввина, и будет вам чистый Бабель, не особенно даже скрывающий генезис своей прозы. В том-то и штука, что у него в «Гюи де Мопассане» и отчасти в «Справке» все это открытым текстом написано. Загадка не в том, как это сделано, а в том, почему в одних случаях такая проза дает эффект бодрящий и духоподъемный, а в другом — забивает тебя по шляпку.
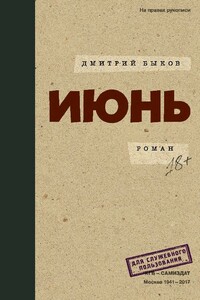
Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.
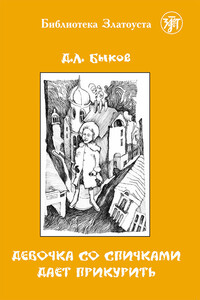
Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

Дмитрий Быков — одна из самых заметных фигур современной литературной жизни. Поэт, публицист, критик и — постоянный возмутитель спокойствия. Роман «Оправдание» — его первое сочинение в прозе, и в нем тоже в полной мере сказалась парадоксальность мышления автора. Писатель предлагает свою, фантастическую версию печальных событий российской истории минувшего столетия: жертвы сталинского террора (выстоявшие на допросах) были не расстреляны, а сосланы в особые лагеря, где выковывалась порода сверхлюдей — несгибаемых, неуязвимых, нечувствительных к жаре и холоду.

«История пропавшего в 2012 году и найденного год спустя самолета „Ан-2“, а также таинственные сигналы с него, оказавшиеся обычными помехами, дали мне толчок к сочинению этого романа, и глупо было бы от этого открещиваться. Некоторые из первых читателей заметили, что в „Сигналах“ прослеживается сходство с моим первым романом „Оправдание“. Очень может быть, поскольку герои обеих книг идут не зная куда, чтобы обрести не пойми что. Такой сюжет предоставляет наилучшие возможности для своеобразной инвентаризации страны, которую, кажется, не зазорно проводить раз в 15 лет».Дмитрий Быков.

Тридцатилетний опыт преподавания «Божественной комедии» в самых разных аудиториях — от школьных уроков до лекций для домохозяек — воплотился в этой книге, сразу ставшей в Италии бестселлером. Теперь и у русского читателя есть возможность познакомиться с текстами бесед выдающегося итальянского педагога, мыслителя и писателя Франко Нембрини. «Божественная комедия» — не просто бессмертный средневековый шедевр. Это неустаревающий призыв Данте на все века и ко всем поколениям людей, живущих на земле. Призыв следовать тому высокому предназначению, тому исконному желанию истинного блага, которым наделил человека Господь.

В книге, посвященной теме взаимоотношений Антона Чехова с евреями, его биография впервые представлена в контексте русско-еврейских культурных связей второй половины XIX — начала ХХ в. Показано, что писатель, как никто другой из классиков русской литературы XIX в., с ранних лет находился в еврейском окружении. При этом его позиция в отношении активного участия евреев в русской культурно-общественной жизни носила сложный, изменчивый характер. Тем не менее, Чехов всегда дистанцировался от любых публичных проявлений ксенофобии, в т. ч.
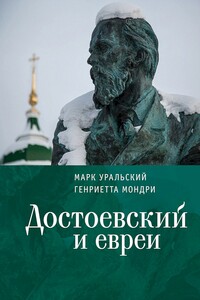
Настоящая книга, написанная писателем-документалистом Марком Уральским (Глава I–VIII) в соавторстве с ученым-филологом, профессором новозеландского университета Кентербери Генриеттой Мондри (Глава IX–XI), посвящена одной из самых сложных в силу своей тенденциозности тем научного достоевсковедения — отношению Федора Достоевского к «еврейскому вопросу» в России и еврейскому народу в целом. В ней на основе большого корпуса документальных материалов исследованы исторические предпосылки возникновения темы «Достоевский и евреи» и дан всесторонний анализ многолетней научно-публицистической дискуссии по этому вопросу. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

«Лишний человек», «луч света в темном царстве», «среда заела», «декабристы разбудили Герцена»… Унылые литературные штампы. Многие из нас оставили знакомство с русской классикой в школьных годах – натянутое, неприятное и прохладное знакомство. Взрослые возвращаются к произведениям школьной программы лишь через много лет. И удивляются, и радуются, и влюбляются в то, что когда-то казалось невыносимой, неимоверной ерундой.Перед вами – история человека, который намного счастливее нас. Американка Элиф Батуман не ходила в русскую школу – она сама взялась за нашу классику и постепенно поняла, что обрела смысл жизни.