Советская литература. Краткий курс - [15]
Есенина знают по совершенно бездарным и клишированным стихам «Письмо к матери», являющим собой неизобретательную вариацию на тему пушкинской «Подруги дней моих суровых», по довольно фальшивому и тоже пьяному обращению к собаке Качалова («Давай с тобой полаем при луне» — собака на луну не лает, а воет, и вообще что за кокетство?!), по песне Григория Пономаренко на стихи «Отговорила роща золотая» — стихи, в которых отчетлив все тот же распад, ибо ни одной темы автор не может выдержать дольше четырех строк и переходит с мысли на мысль, с предмета на предмет, следя за всем равнодушно-пьяным взором, в элегической первой стадии опьянения (на второй начнутся вопросы «Что ты смотришь так синими брызгами?»). Еще знаменитей чудовищный романс «Клен ты мой опавший, клен заледенелый» — но уже не по причинам лирическим, а в силу соблазна заменить там одну букву, чтобы получилась смешная непристойность. Заметим, что после этой замены стихотворение в самом деле обретает некоторый пронзительный лиризм, становится, по выражению Ахматовой, «достаточно бесстыдным, чтобы быть поэзией». Вся эта преувеличенная и вот именно что пьяная нежность к деревьям, зверью, месяцу и т. д. рассчитана на такую же поддавшую аудиторию, и как в «Хоббите» лунные буквы видны только при определенной фазе луны, так и стихи эти со всеми их пороками могут вышибить слезу или восторг только у того, кто до них допился. Говорят, что так же надо читать Дилана Томаса, но Томас и спьяну держал форму, не сваливаясь притом в банальщину. Народное отношение к Есенину полней и насмешливей всего отражено Шукшиным в рассказе «Верую»:
«— Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно — с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.
Нет, Есенин… Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?
— Люблю.
И поп загудел про клен заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда защемило в груди. На словах „ах, и сам я нынче чтой-то стал нестойкий“ поп ударил кулаком в столешницу и заплакал и затряс гривой.
— Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!..»
Все это по-своему трогательно, но к поэзии отношения не имеет. Однако именно этот, антипоэтичный Есенин, корявый уже не от желания выглядеть крестьянским поэтом, а от элементарной неспособности управиться с речью, — нравится массам; точней, им нравится состояние подпития, в котором подобная поэзия кажется верхом лирического мастерства и таланта. Всенародная любовь к позднему Есенину и полное забвение раннего — диагноз стране, а не поэту. Между тем первые два тома канонического есенинского пятитомника — довольно серьезное явление. Есенин — поэт не высшего, но хорошего класса; не Заболоцкий, до которого ему не хватает глубины, и не Твардовский даже, ибо Твардовский интеллектуальней, но в смысле новаторства и непосредственности он, пожалуй, превосходил того и другого. Иной вопрос, что, исчерпав эту свою раннюю поэтику, он должен был куда-то двинуться — и поэтически, и биографически: тут были две возможности — вверх или вниз. Он пошел вниз, к алкогольной деградации. Винить ли его в этом? Множество поэтов, исписавшись, портили чужую жизнь — он всего лишь загубил свою, да еще, может, жизнь Гали Бениславской.
Поздний Есенин метался, с крестьянской хитростью пытался приспособиться к советскому антуражу, но выдавал перлы вроде «Неповторимые я вынес впечатленья» в программном стихотворении «Русь советская». От этого стихотворения в народной речи осталась строчка «Задрав штаны, бежать за комсомолом», произносимая при виде неуклюжих попыток конформизма. Все впечатление даже от сравнительно удачных вещей 1924―1925 годов портит сочетание отчаяния с неистребимой расчетливостью: Есенин многое умел в поэзии, но категорически не умел петь чужим голосом. У него вообще не очень хорошо было с поэзией рассудочной, описательной и повествовательной, но метафоры превосходны — строчки вроде «Изба-старуха челюстью порога жует пахучий мякиш тишины», хоть и стали уже хрестоматийными, но всякий раз радуют заново. Есенин — поэт тех тонких и сложных состояний, какие переживала вся Россия с 1916 по 1922 годы: кругом страшно, но чувствуется соседство Бога, близко сверхчеловеческое и внеисторическое состояние, нечто пугающее, но ослепительное, небывалое, способное, кажется, перевернуть судьбу всего мира. Из этого родились «Двенадцать» Блока, «Флейта-позвоночник», «Про это» и «Четвертый интернационал» Маяковского, «Сестра моя жизнь» и «Разрыв» Пастернака, «Anno Domini» Ахматовой, «Версты» Цветаевой, «Tristia» Мандельштама, «Пришествие», «Иорданская голубица», «Небесный барабанщик», «Пантократор» и «Исповедь хулигана» Есенина.
Мы не станем здесь вдаваться в особенности его мировоззрения — у него, строго говоря, мировоззрения и не было. Важней и интересней всего в этой грозной книге — поэзии русской революции, которую давно толком никто не собирал и не переиздавал, — ее мощный евангельский подтекст. Все без исключения воспринимали революцию как пришествие Христа, но каждый видел его по-своему: для Блока Христос — во главе революционного патруля и несет не столько обновление, сколько гибель. Для Маяковского и Есенина тема Христа — личная: думаю, Маяковский легко мог бы приложить к себе слова Есенина «Не молиться тебе, а лаяться научил ты меня, Господь». Лирический герой Есенина — «непокорный, разбойный сын», и главная тема его революционной лирики — именно сыновний бунт. Тут они оба, друзья-враги-соперники, звучат в унисон: «Я ж тебя, пропахшего ладаном, раскрою́ отсюда — до Аляски!» — «Даже Богу я выщиплю бороду оскалом моих зубов». Интересно, что и у Есенина, и у Маяковского эти припадки буйного кощунства — даже и эстетически не больно-то впечатляющие — сменялись жалобами, мольбами, смирением: «Врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет и целует ему жилистую руку». — «О, Саваофе! Покровом твоих рек и озер прикрой сына». У обоих — жертвенная готовность умереть во искупление грехов Родины. Бунт Есенина выродился потом в буйство, бунтарство — в «хулиганство», но то, что случилось с Маяковским, было ничем не лучше: его бунт переродился сперва в оду насилию, бессмысленному и беспощадному, а потом в апофеоз стальной дисциплины. Андрей Синявский горько-иронически сопоставил: 1921 — «Левой, левой, левой!», 1927 — «Жезлом правит, чтоб вправо шел: пойду направо, очень хорошо». Иной раз подумаешь — кабацкий вариант Есенина предпочтительней.
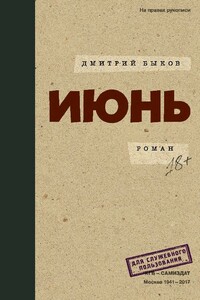
Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.
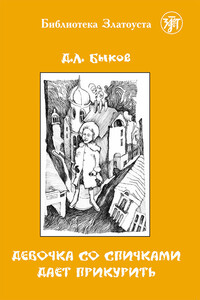
Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.

Дмитрий Быков — одна из самых заметных фигур современной литературной жизни. Поэт, публицист, критик и — постоянный возмутитель спокойствия. Роман «Оправдание» — его первое сочинение в прозе, и в нем тоже в полной мере сказалась парадоксальность мышления автора. Писатель предлагает свою, фантастическую версию печальных событий российской истории минувшего столетия: жертвы сталинского террора (выстоявшие на допросах) были не расстреляны, а сосланы в особые лагеря, где выковывалась порода сверхлюдей — несгибаемых, неуязвимых, нечувствительных к жаре и холоду.

«История пропавшего в 2012 году и найденного год спустя самолета „Ан-2“, а также таинственные сигналы с него, оказавшиеся обычными помехами, дали мне толчок к сочинению этого романа, и глупо было бы от этого открещиваться. Некоторые из первых читателей заметили, что в „Сигналах“ прослеживается сходство с моим первым романом „Оправдание“. Очень может быть, поскольку герои обеих книг идут не зная куда, чтобы обрести не пойми что. Такой сюжет предоставляет наилучшие возможности для своеобразной инвентаризации страны, которую, кажется, не зазорно проводить раз в 15 лет».Дмитрий Быков.

Тридцатилетний опыт преподавания «Божественной комедии» в самых разных аудиториях — от школьных уроков до лекций для домохозяек — воплотился в этой книге, сразу ставшей в Италии бестселлером. Теперь и у русского читателя есть возможность познакомиться с текстами бесед выдающегося итальянского педагога, мыслителя и писателя Франко Нембрини. «Божественная комедия» — не просто бессмертный средневековый шедевр. Это неустаревающий призыв Данте на все века и ко всем поколениям людей, живущих на земле. Призыв следовать тому высокому предназначению, тому исконному желанию истинного блага, которым наделил человека Господь.

В книге, посвященной теме взаимоотношений Антона Чехова с евреями, его биография впервые представлена в контексте русско-еврейских культурных связей второй половины XIX — начала ХХ в. Показано, что писатель, как никто другой из классиков русской литературы XIX в., с ранних лет находился в еврейском окружении. При этом его позиция в отношении активного участия евреев в русской культурно-общественной жизни носила сложный, изменчивый характер. Тем не менее, Чехов всегда дистанцировался от любых публичных проявлений ксенофобии, в т. ч.
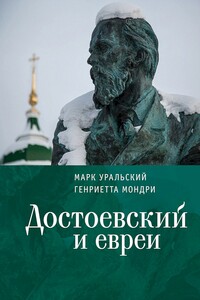
Настоящая книга, написанная писателем-документалистом Марком Уральским (Глава I–VIII) в соавторстве с ученым-филологом, профессором новозеландского университета Кентербери Генриеттой Мондри (Глава IX–XI), посвящена одной из самых сложных в силу своей тенденциозности тем научного достоевсковедения — отношению Федора Достоевского к «еврейскому вопросу» в России и еврейскому народу в целом. В ней на основе большого корпуса документальных материалов исследованы исторические предпосылки возникновения темы «Достоевский и евреи» и дан всесторонний анализ многолетней научно-публицистической дискуссии по этому вопросу. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

Диссертация американского слависта о комическом в дилогии про НИИЧАВО. Перевод с московского издания 1994 г.

Книга доктора филологических наук профессора И. К. Кузьмичева представляет собой опыт разностороннего изучения знаменитого произведения М. Горького — пьесы «На дне», более ста лет вызывающего споры у нас в стране и за рубежом. Автор стремится проследить судьбу пьесы в жизни, на сцене и в критике на протяжении всей её истории, начиная с 1902 года, а также ответить на вопрос, в чем её актуальность для нашего времени.

«Лишний человек», «луч света в темном царстве», «среда заела», «декабристы разбудили Герцена»… Унылые литературные штампы. Многие из нас оставили знакомство с русской классикой в школьных годах – натянутое, неприятное и прохладное знакомство. Взрослые возвращаются к произведениям школьной программы лишь через много лет. И удивляются, и радуются, и влюбляются в то, что когда-то казалось невыносимой, неимоверной ерундой.Перед вами – история человека, который намного счастливее нас. Американка Элиф Батуман не ходила в русскую школу – она сама взялась за нашу классику и постепенно поняла, что обрела смысл жизни.