Солнце самоубийц - [76]
Внезапен сквозняк сквозь обмирающее потемками сознание.
Сквозняк?
Или коснувшееся сердца сладостной слабостью исчезновения и неприсутствия — Ничто?
Оказывается, оно может быть так опустошающе ощутимо — Ничто.
Чудный мир — ядро его жизненной сущности — населен призраками.
Никого уже нет.
Ядро, выходит, мертво.
Ничто вкрадчиво.
Ничто по-панибратски обнимает за плечи, щекочет горло, шепчет на ухо о том, что здесь, по эту сторону, скучно, здесь все делают вид, что продолжают суетиться, а на самом деле, деловито, со знанием дела и, главное, со спокойствием, отрабатываемым на вечность, готовятся туда, и оживают, становятся истинно реальными все эти увенчанные арками проходы в руины имперского Рима, все эти ворота в Никуда, окна в Нигде, лестницы, обрывающиеся в Никогда, карнизы, порталы, колонны, поддерживающие Ничто.
Все вокруг замерло, занесло ногу, зачарованно застыло на пороге Ничто.
Речь не о воображении, а об открывшем себя и уже укоре-похожего на Антимир, который не что иное, как интеллектуальная игра стареющих младенцев — всеобъемлющего, нешуточно захватывающего Ничто.
Ему вовсе не противоречит крик пришедшего в себя после обморока давным-давно в больнице Кона: «Доктор, я буду жить?»
Крик этот всего лишь перекличка с себе подобным на границе между двумя мирами: так перекликались стражи на башнях вдоль границы — «Слу-у-ш-ай».
Место стыка, встречи, прохода в обе стороны из этого мира в Ничто и наоборот — сны, особенно на рассвете, ну и, быть может, барка мертвых у моста Сан-Анджело?
Кон посерел, вымотался, пригвожденный к черному песку тирренского берега этими безумными мыслями, не отпускающими душу на покаяние.
3
Ничто дает о себе знать.
То мелькнувшей, как летучая мышь, тенью. Без лика. Один дым.
То утягиваемым во мрак пространством с вяло ползущими людьми, нишами, стенами — в зеркале у края перрона подземной станции метро, пока Кон не улавливает, что это обратное отражение самого перрона.
То чем-то неощутимым и все же наличествующим: стоит этому возникнуть, как у окружающих на лицах обозначается какое-то хищное любопытство — чьи-то глаза из-за стены, колонны, жадно светятся поощрением: переступит ли черту?
Стоит остановиться на мосту Сан-Анджело (удивился, как его сюда принесло в этот ранний час тридцать первого декабря), над этим, ковчегом ли, баркой, вертепом, таким, кажется, обшарпанным, обшелудивевшим, обессиленным после ночного шабаша утопленников, — как тотчас рядом останавливаются какие-то типы, тоже глядят в воду, бросая искоса, украдкой, поощряющие взгляды, вздыхая, ерзая, наклоняясь над бездной под анфиладой каменных Ангелов, застывших над перилами моста, заранее и навечно расправивших крылья прощания и прощения над трепещущим в воздухе предчувствием гибели в чьем-то сердце.
На Монте-Сакро только мелькнуло в сознании нечто, как тут же подъехала машина с краном: пытались проникнуть в какую-то квартиру на верхнем этаже; в толпе перебрасывались словами: кто-то забаррикадировался и то ли застрелился, то ли повесился, то ли отравился газом.
И опять вокруг сновали какие-то типы, многозначительно поглядывая на вовсе им незнакомого Кона, шмыгая носом, изгибаясь в его сторону всем телом.
Кон уходит от моста по улице Витторио Эммануэле в сторону площади Венеции, как приходит в себя, Кон уже посмеивается над самим собой: всегда в городе вокруг тебя людишки, но это все же не успокаивает, как будто вне души существуют более веские доводы того, что все они — по его душу.
Проходит мимо Еврейского агентства, и мысль мгновенно меняет направление: ты слишком самонадеян, Кон, потому Бог и не дает тебе жажды к земле Обетованной, потому и подослал такого Майза с его скучными байками об этой земле, чтобы отвратить от нее. Кон с самого начала и не сомневался в том, что Майз едет в Париж именно для участия в выставке, а историю об исчезнувшем Иосифе рассказал Кону во спасение души, только неизвестно чьей — своей или Кона. Думая так, знает Кон, именно знает, что был несправедлив к Майзу, что и сейчас, быть может, возводит напраслину, но анекдотический внутренний голос, чересчур неслышный, чтобы относиться к нему с легковесностью, твердит, что все это именно так, если смотреть на это не из суеты, а откуда-то оттуда — из Ничто.
Пора.
Непонятно, куда, но главное, не застывать на месте, не обрастать мхом, не покрываться дерном, пусть наисвежезеленым, как на могиле Брюллова и Китса, над которыми он стоит в этот миг, опять неизвестно зачем решив посетить это лютеранское кладбище у станции метро «Пирамида».
В пятом часу после последнего полудня семьдесят девятого года Кон, вернувшись поездом из Рима, обнаруживает себя на остийской набережной, где идет особенно оживленная торговля: мусульмане — иранцы, то бишь, персы, и иракцы — покинувшие поле сражения по обе стороны фронта, на бойком итальянском рекламируют свои товары; иракцы с багдадской вороватостью расстилают свои ковры, как будто это по меньшей мере волшебные ковры-самолеты; персы же более сдержанны, ибо знают, что в сравнении с персидскими коврами, несущими в себе ароматы и тайны тысяча и одной ночи, все в этом мире трын-трава; унылые эмигранты-евреи, пошмыгивая вошедшими в мировые легенды носами, по-прежнему сбывают балетные тапочки, абсолютно уверенные в том, что главной целью итальянцев является стремление встать на пуанты, жить в ритме па-де-де; они же, эмигранты-евреи, как истинные представители русского народного искусства, на все лады расхваливают, другими словами, без слов размахивают красочными шкатулками и коробками Палеха, матрешками и куклами.
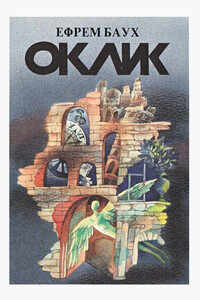
Роман крупнейшего современного израильского писателя Эфраима(Ефрема) Бауха «Оклик» написан в начале 80-х. Но книга не потеряла свою актуальность и в наше время. Более того, спустя время, болевые точки романа еще более обнажились. Мастерски выписанный сюжет, узнаваемые персонажи и прекрасный русский язык сразу же сделали роман бестселлером в Израиле. А экземпляры, случайно попавшие в тогда еще СССР, уходили в самиздат. Роман выдержал несколько изданий на иврите в авторском переводе.

Судьба этого романа – первого опыта автора в прозе – необычна, хотя и неудивительна, ибо отражает изломы времени, которые казались недвижными и непреодолимыми.Перед выездом в Израиль автор, находясь, как подобает пишущему человеку, в нервном напряжении и рассеянности мысли, отдал на хранение до лучших времен рукопись кому-то из надежных знакомых, почти тут же запамятовав – кому. В смутном сознании предотъездной суеты просто выпало из памяти автора, кому он передал на хранение свой первый «роман юности» – «Над краем кратера».В июне 2008 года автор представлял Израиль на книжной ярмарке в Одессе, городе, с которым связано много воспоминаний.

Крупнейший современный израильский романист Эфраим Баух пишет на русском языке.Энциклопедист, глубочайший знаток истории Израиля, мастер точного слова, выражает свои сокровенные мысли в жанре эссе.Небольшая по объему книга – пронзительный рассказ писателя о Палестине, Израиле, о времени и о себе.

Роман Эфраима Бауха — редчайшая в мировой литературе попытка художественного воплощения образа самого великого из Пророков Израиля — Моисея (Моше).Писатель-философ, в совершенстве владеющий ивритом, знаток и исследователь Книг, равно Священных для всех мировых религий, рисует живой образ человека, по воле Всевышнего взявший на себя великую миссию. Человека, единственного из смертных напрямую соприкасавшегося с Богом.Роман, необычайно популярный на всем русскоязычном пространстве, теперь выходит в цифровом формате.

Новый роман крупнейшего современного писателя, живущего в Израиле, Эфраима Бауха, посвящен Фридриху Ницше.Писатель связан с темой Ницше еще с времен кишиневской юности, когда он нашел среди бумаг погибшего на фронте отца потрепанные издания запрещенного советской властью философа.Роман написан от первого лица, что отличает его от общего потока «ницшеаны».Ницше вспоминает собственную жизнь, пребывая в Йенском сумасшедшем доме. Особое место занимает отношение Ницше к Ветхому Завету, взятому Христианством из Священного писания евреев.

Как найти свою Шамбалу?.. Эта книга – роман-размышление о смысле жизни и пособие для тех, кто хочет обрести внутри себя мир добра и любви. В историю швейцарского бизнесмена Штефана, приехавшего в Россию, гармонично вплетается повествование о деде Штефана, Георге, который в свое время покинул Германию и нашел новую родину на Алтае. В жизни героев романа происходят пугающие события, которые в то же время вынуждают их посмотреть на окружающий мир по-новому и переосмыслить библейскую мудрость-притчу о «тесных и широких вратах».

«Отранто» — второй роман итальянского писателя Роберто Котронео, с которым мы знакомим российского читателя. «Отранто» — книга о снах и о свершении предначертаний. Ее главный герой — свет. Это свет северных и южных краев, светотень Рембрандта и тени от замка и стен средневекового города. Голландская художница приезжает в Отранто, самый восточный город Италии, чтобы принять участие в реставрации грандиозной напольной мозаики кафедрального собора. Постепенно она начинает понимать, что ее появление здесь предопределено таинственной историей, нити которой тянутся из глубины веков, образуя неожиданные и загадочные переплетения. Смысл этих переплетений проясняется только к концу повествования об истине и случайности, о святости и неизбежности.

Давным-давно, в десятом выпускном классе СШ № 3 города Полтавы, сложилось у Маши Старожицкой такое стихотворение: «А если встречи, споры, ссоры, Короче, все предрешено, И мы — случайные актеры Еще неснятого кино, Где на экране наши судьбы, Уже сплетенные в века. Эй, режиссер! Не надо дублей — Я буду без черновика...». Девочка, собравшаяся в родную столицу на факультет журналистики КГУ, действительно переживала, точно ли выбрала профессию. Но тогда показались Машке эти строки как бы чужими: говорить о волнениях момента составления жизненного сценария следовало бы какими-то другими, не «киношными» словами, лексикой небожителей.

Действие в произведении происходит на берегу Черного моря в античном городе Фазиси, куда приезжает путешественник и будущий историк Геродот и где с ним происходят дивные истории. Прежде всего он обнаруживает, что попал в город, где странным образом исчезло время и где бок-о-бок живут люди разных поколений и даже эпох: аргонавт Язон и французский император Наполеон, Сизиф и римский поэт Овидий. В этом мире все, как обычно, кроме того, что отсутствует само время. В городе он знакомится с рукописями местного рассказчика Диомеда, в которых обнаруживает не менее дивные истории.

Эйприл Мэй подрабатывает дизайнером, чтобы оплатить учебу в художественной школе Нью-Йорка. Однажды ночью, возвращаясь домой, она натыкается на огромную странную статую, похожую на робота в самурайских доспехах. Раньше ее здесь не было, и Эйприл решает разместить в сети видеоролик со статуей, которую в шутку назвала Карлом. А уже на следующий день девушка оказывается в центре внимания: миллионы просмотров, лайков и сообщений в социальных сетях. В одночасье Эйприл становится популярной и богатой, теперь ей не надо сводить концы с концами.

Сказки, сказки, в них и радость, и добро, которое побеждает зло, и вера в светлое завтра, которое наступит, если в него очень сильно верить. Добрая сказка, как лучик солнца, освещает нам мир своим неповторимым светом. Откройте окно, впустите его в свой дом.
