Сны под снегом - [18]
Бог юности нашей не оставил наследника.
Петрашевский был вылеплен из другой глины; может тоже божественной, но другой.
Он пробегал петербургскими улицами в испанском плаще и цилиндре эксцентричной формы — не круглом, а граненом; на глазах собравшейся черни искал ссоры с полицией, задевал чиновников, чтобы высмеять их и унизить; он старался оказаться на пути самого Николая, лишь затем, чтобы и к нему, помазанной главе иерархий, проявить пренебрежение; на случай если его задержат он приготовил дерзкое объяснение, что он близорук; если император хочет, чтобы его узнавали, пусть носит при себе погремушку.
Дворников со своей улицы он хотел обратить в фурьеризм; собрались, усатые, в белых передниках, с уважением покашливали; он дал им по двугривенному и прочел лекцию; понимаем, а как же, ваше благородие; когда однако во второй раз получили лишь по гривеннику — не понимали.
Не обескураженный, основал фаланстер в имении под Петербургом.
Сумасбродный мой друг Петрашевский, инфантильный и опрометчивый; молокососом-лицеистом он был менее инфантильным, когда сам еще неуверенный во что верит и как должен превратить в действие свою неясную веру, в вожжах держал скрытые страсти; но позже на столичной мостовой начали они взрываться бурно и чересчур шумно, не обращая внимания на обстоятельства, ослепленные собственным резким сиянием.
Он уже знал; знание рождало сумасбродство; но возможно больше всего раздувало его не чуждое и мне, и другим ощущение поднимающейся волны истории; все более высокая, она должна была вскоре отступить — это болезненное чувство также сопутствовало ее приближению; так что— успеть, ах, успеть хоть что-нибудь, большое, маленькое, безумное, но с ней, в ее брызгах и грохоте, потом погибнуть, но успеть, успеть.
Я тогда писал свои первые повести.
К Петрашевскому я ходил на собрания по пятницам; тут, в кругу единомышленников, на второй план отодвигалось сумасбродство и в полной мере выявлялась мудрость предводителя; книги, с которыми мы с жадностью желторотых лишь знакомились, им уже давно были усвоены; пожалуй, не было области знания, которую бы он не изучил; когда ж он говорил об истории или экономии, мир становился ясным, имел свои несомненные причины, цель и путь к цели; он не был миром нормальным, но мы знали его ошибки; когда мы их исправим — он станет нормальным; эта норма, ясное дело, также была нам открыта.
Французская революция прошлого столетия имела свою Энциклопедию; ее годами создавали самые выдающиеся умы; Петрашевский в течение всего лишь десятка месяцев составил русскую Энциклопедию (более краткую, надо признать): двухтомный Словарь Иностранных Слов; и всего лишь два человека — Майков и Штрандман — помогали ему в этом деле; это была книга фанатичного отрицания существующего порядка и утверждения порядка, который должен наступить.
Достаточно было раскрыть ее на любой странице.
Аномалия. Миллионы людей без устали, в поте лица своего, тратят силы на удовлетворение единственной потребности — потребности в пище, и при этом часто умирают от голода, в то время как другие гибнут от обжорства. Все это заставляет смотреть на современное общество как на чудовищную аномалию, подавляющую развитие человека.
Аномалия не любила однако, чтобы ее называли по имени.
Судьба русской Энциклопедии отличалась от судьбы французской.
Когда Петрашевский со свойственной ему бравадой посвятил словарь Великому Князю, это обратило на книгу дремлющее око властей.
Ведомство сожгло весь нераспроданный тираж: тысячу шестьсот экземпляров из двух тысяч напечатанных.
Крестьяне сожгли фаланстер, который выстроил для них безумный барин.
Еще до этого во мне сгорела вера в его утопии.
Человеческий род суть большое коллективное существо, органами которого являются изящные искусства, наука и индустрия; история цивилизации представляет картину очередных физиологических состояний человеческого рода; она также доказывает способность человеческого рода к совершенствованию; ее нужно только понять и захотеть сделать выводы; создавая порядок, в котором каждый будет наделен по своим заслугам, вознаграждаем же по своим делам, человеческий род достигнет совершенства, наступит золотой век, который воображение поэтов поместило в темноте первобытных времен, но который на самом деле впереди.
Это Сен-Симон, а Фурье, призывающий перейти от общественного хаоса ко всеобщей гармонии, начертавший картину радостного и привлекательного труда, а Кабе, а Видаль, все эти благородные и мудрые — в самом деле, слишком многим обязаны им мой ум и сердце, чтобы тогда или теперь я мог насмехаться над ними.
Но я не был в состоянии не возвращаться после этих взлетов на землю.
У всех утопистов, особенно же у Фурье, меня раздражала подробная регламентация будущего, которой так упивался Петрашевский.
Это было наивно и бесполезно; нельзя предвидеть будущее в отрыве от постепенного усвоения человечеством тайн природы и происходящего отсюда развития наук.
Фурье предвидел ненужных антильвов и антиакул и не предвидел ни железных дорог, ни телеграфа, которые несравненно радикальнее влияют на ход человеческого развития, нежели антильвы.

Виктор Ворошильский (1927–1996) польский поэт, прозаик, эссеист, публицист, переводчик, исследователь русской литературы. В 1952-56 гг. учился в аспирантуре в московском Литературном институте им. Горького. В 1956 г. как корреспондент еженедельника «Нова культура» побывал в Будапеште, был свидетелем венгерского восстания. Свои впечатления от восстания описал в «Венгерском дневнике», который полностью был тогда опубликован только во французской печати, лишь спустя много лет в польском и венгерском самиздате.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
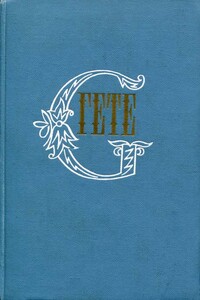
В «Разговорах немецких беженцев» Гете показывает мир немецкого дворянства и его прямую реакцию на великие французские события.
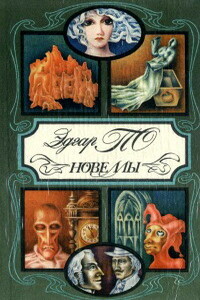
Молодой человек взял каюту на превосходном пакетботе «Индепенденс», намереваясь добраться до Нью-Йорка. Он узнает, что его спутником на судне будет мистер Корнелий Уайет, молодой художник, к которому он питает чувство живейшей дружбы.В качестве багажа у Уайета есть большой продолговатый ящик, с которым связана какая-то тайна...

«В романах "Мистер Бантинг" (1940) и "Мистер Бантинг в дни войны" (1941), объединенных под общим названием "Мистер Бантинг в дни мира и войны", английский патриотизм воплощен в образе недалекого обывателя, чем затушевывается вопрос о целях и задачах Великобритании во 2-й мировой войне.»В книге представлено жизнеописание средней английской семьи в период незадолго до Второй мировой войны и в начале войны.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.