Смысл жизни человека: от истории к вечности - [13]
Добродетель они понимали как согласованность с природой: первым побуждением живого существа является самосохранение, так как «природа изначально дорога сама по себе».105 Стремление же к наслаждению – ложно как причина, и смысл имеет лишь как следствие. Наслаждение не нуждается в разуме, который дан человеку, и для него жить по природе, значит, жить по разуму.106
Разумение – это знание, что есть зло, а что – добро, а что – ни то, ни другое.
Благо тесно связано с пользой; это или то, из чего происходит польза, или то, в чем она проявляется, или то, кем она осуществляется. «Есть и другое частное определение блага: естественное совершенство разумного существа в его разумности».107
Блага представляют собой либо цели, поскольку сами входят в полноту счастья, либо средства, поскольку ведут к счастью. То же самое относится и к злу (зло – цель и зло – средство).108
«Совершенное благо они называют прекрасным, потому что оно имеет от природы все необходимые величины, или же совершенную соразмерность».109 К такого рода благу устремлен мудрец: бесстрастный (а главные страсти это: скорбь, страх, желание и наслаждение), несуетный одинаково относится и к доброй, и к недоброй молве нелицемерный и безыскусный, благочестивый. «Далее, он божествен, потому что как бы имеет в себе бога, между тем как дурной человек безбожен»…110
«Он один свободен, тогда как дурные люди – рабы, – ибо свобода есть возможность самостоятельного действия, а рабство – его лишение».111
Аристон из Хиоса полагал конечной целью жизнь в безразличии ко всему, что лежит между добродетелью и пороком… «Он не говорил, что добродетелей много (как Зенон [из Китиона – Ю.С.]), и не говорил, что добродетель – одна под многими именами (как мегарики), а говорил, что добродетель зависит от того, к чему она применяется».112
После рассказа о ионийской философии, что ведет начало от Фалеса, Диоген Лаэрций приступил к философии италийской, которой положил начало Пифагор из Самоса.
Пифагор велик как математик: когда он нашел, что в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, то принес богам гекатомбу (жертву в 100 быков).
«Говорят, он первый заявил, что душа совершает круг неизбежности, чередою облекаясь то в одну, то в другую жизнь»113 … «… сам же он в своем сочинении утверждает, что вышел к людям, пробыв двести лет в Аиде».114
Наставление он называл «напрямлением» и предписывал богов чтить свыше демонов, героев выше людей, а из людей выше всего – родителей.
Душа, по Пифагору, в отличие от жизни, бессмертна, как то, от чего она «оторвалась». Разумное бессмертно, а остальное смертно.
«Главное для людей, говорил Пифагор, в том, чтобы наставить душу к добру или злу. Счастлив человек, когда душа у него становится доброю; но в покое она не бывает, и ровным потоком не течет… Добродетель есть лад (harmonia), здоровье, всякое благо и Бог».115
О цельности жизни, составленной из противоположностей, говорит Гераклит из Эфеса: «Все составилось из огня и в огонь разрешается. Все совершается по судьбе и слаживается взаимной противобежностью… Все исполнено душ и демонов».116
О людях же он был невысокого мнения: «истины и справедливости они чуждаются, а прилежат в дурном неразумии своем к алчности и тщеславию».117 Мудрец, к коим он себя причислял, «довольствуется немногим», тем, что «по душе».
С тем, что конечная цель человека – «душевное благосостояние», был согласен и Демокрит Абдерский.118 Это состояние спокойствия и равновесия ничего не имеет общего с наслаждением.
Представления софиста Протагора лишены такой однозначности: « Он первый заявил, что о всяком предмете можно сказать двояко и противоположным образом».119
Причина релятивизма состоит в том, что нет объективной меры знаний: «Человек есть мера всем вещам – существованию существующих и несуществованию несуществующих».120 Так что, «все на свете истинно» (равно как и наоборот).
Протагор писал: «О богах я не могу знать, есть ли они, нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию, – и вопрос темен, и людская жизнь коротка».121 За это, утверждает Диоген Лаэрций, афиняне изгнали его из города, а книги его сожгли на площади. Люди скорее соглашаются с «темностью» рассуждений, нежели с их неопределенностью.
Таковы были скептики, которые цель свою полагали в опровержении догматов всех школ, но сами ни о чем догматически не высказывались.122 «Догматики возражают, будто скептики этим вовсе не подрывают значение рассуждения, а утверждают его»123 (К смысложизненной проблематике, как бы она ни выражалась: то через рассуждение о конечной цели человека, то ли в оценке добродетелей, то ли в выделении признаков мудрости… это имеет прямое отношение, так как отрицание смысла жизни или возможности его постижения могут расцениваться как вполне определенные ответы на сомнительные вопросы).
Заслугой скептиков можно считать различение истинного и убедительного: «Убедительность зависит и от внешних обстоятельств, и от доброго имени говорящего – потому ли, что он разумен, или вкрадчив, или близок к нам, или говорит приятно нам».
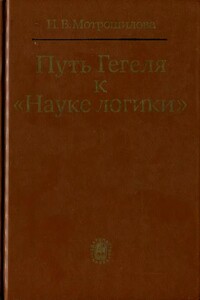
Книга представляет собой монографическое исследование становления философской мысли Гегеля (от ранних работ до «Науки логики» включительно), проведенное под углом зрения проблем системности и историзма.Впервые в советской литературе обстоятельно анализируются работы Гегеля раннего периода (в том числе непереведенные на русский язык). В ходе исследования дается критический разбор положений западного гегелеведения 60 – 70-х годов.
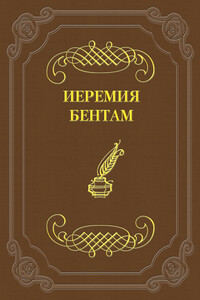
Тактика законодательных собраний Иеремии Бентама – классическое сочинение, ставшее в культурных странах начальным учебником и настольным руководством к действию для государственных деятелей. Идеи Бентама в настоящее время почти всецело воплощены в жизнь цивилизованных народов, и английские порядки, изложенные в «Тактике», легли в основу программных документов всех парламентов мира; но он писал в то время, когда парламентское устройство, и притом весьма несовершенное, существовало лишь в Англии и только зарождалось во Франции.

Книга посвящена актуальным проблемам традиционной и современной духовной жизни Японии. Авторы рассматривают становление теоретической эстетики Японии, прошедшей путь от традиции к философии в XX в., интерпретации современными японскими философами истории возникновения категорий японской эстетики, современные этические концепции, особенности японской культуры. В книге анализируются работы современных японских философов-эстетиков, своеобразие дальневосточного эстетического знания, исследуется проблема синестезии в искусстве, освящается актуальная в японской эстетике XX в.

Это не совсем обычная книга о России, составленная из трудов разных лет, знаменитого русского ученого и мыслителя Виктора Николаевича Тростникова. Автор, обладая колоссальным опытом, накопленным за много лет жизни в самых разнообразных условиях, остается на удивление молодым. Действительно, Россия в каком-то смысле пережила свое «самое длинное десятилетие». А суждения автора о всяческих сторонах общественной жизни, науки, религии, здравого смысла оказываются необычно острыми, схватывающими самую суть нашей сегодняшней (да и вчерашней и завтрашней) реальности.

Серия «Новые идеи в философии» под редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова впервые вышла в Санкт-Петербурге в издательстве «Образование» ровно сто лет назад – в 1912—1914 гг. За три неполных года свет увидело семнадцать сборников. Среди авторов статей такие известные русские и иностранные ученые как А. Бергсон, Ф. Брентано, В. Вундт, Э. Гартман, У. Джемс, В. Дильтей и др. До настоящего времени сборники являются большой библиографической редкостью и представляют собой огромную познавательную и историческую ценность прежде всего в силу своего содержания.

Во 2-м томе марксистско-ленинская диалектика рассматривается как теоретическая и методологическая основа современного научного познания. Исследуется диалектика субъекта и объекта, взаимосвязь метода теория и практики, анализируется мировоззренческая, методологическая эвристическая и нормативная функции принципов, законов и категорий диалектики, раскрывается единство диалектики, логики и теории познания.