Смысл жизни человека: от истории к вечности - [14]
Атараксия весьма почиталась Эпикуром, однако его этика, как наука о предпочитаемом и избегаемом, об образе жизни и предельной цели, основана не на скепсисе, а на житейском опыте, дающем нам критерии истины – ощущения, предвосхищение, претерпевание.127 Само существование восприятий демонстрирует истинность чувств: «Видения безумцев и спящих тоже истинны, потому что они приводят в движение [чувства], а несуществующее к этому не способно».128
Мудрость так же несомненна для Эпикура, и она не может обратиться в противоположное состояние. Мудрец больше, чем другие, доступен страстям, но они не препятствуют его мудрости. «Один мудрец другого не мудрее» (это можно понимать так, что мудрость не количественная, а качественная сущность).
По Эпикуру, мудрость лучше проявляется в избегании, чем в предпочтениях; мудрец не будет: любить, жениться, заводить детей, заниматься государственными делами, не станет «жить киником» или нищенствовать. «Даже ослепнув, он не лишит себя жизни».129
И молодому, и старому, для душевного здоровья, следует заниматься философией, полагающей самые основные начала хорошей жизни.
«Прежде всего верь, что бог есть существо бессмертное и блаженное… и поэтому не приписывай ему ничего, что чуждо бессмертию и не свойственно блаженству… Привыкай думать, что смерть для нас – ничто: ведь все и хорошее и дурное заключается в ощущении, а смерть есть лишение ощущений…; когда мы есть, то смерти еще нет, а когда смерть наступает, то нас уже нет. Таким образом, смерть не существует ни для живых ,ни для мертвых, так как для одних она сама не существует, а другие для нее сами не существуют».130 Одна и та же наука – умение хорошо жить и хорошо умереть. Конечная цель блаженной жизни – это телесное здоровье и душевная безмятежность.131 Первое и сродное нам благо – наслаждение, говорит Эпикур, однако разумеет под ним «отнюдь не наслаждения распутства или чувственности… – нет, мы разумеем свободу от страданий тела и от смятений души».132 В конечном итоге, высшим благом оказывается разумение (оно дороже самой философии), и от него произошли все остальные добродетели. «Это оно учит, что нельзя жить сладко, не живя разумно, хорошо и праведно».133
Мудрец не верит басням о судьбе, считает Эпикур, и случай для него не бог, как для толпы. «Поэтому и полагает мудрец, что лучше с разумом быть несчастным, чем без разума быть счастливым: всегда ведь лучше, чтобы хорошо задуманное дело не было обязано успехом случаю».134 (Предпочтение разума счастью показывает основательность приписывания Эпикура к лагерю гедонистов, для которых наслаждение – само для себя закон и цель).
Изложение мудрых мыслей Эпикура можно завершить той, что прямо указывает на важность смысложизненной проблематики философии: «Нужно держать в виду действительную цель жизни и полную очевидность, по которой мерятся мнения, – иначе все будет полно сомнения и беспорядка».135
Под этими словами, с полным правом, мог бы подписаться Луций Анней Сенека – римский философ и писатель. В своих «Нравственных письмах к Луцилию» он в наставительной форме изложил представления о наилучшем, нравственном образе жизни, согласно с природой и назначением человека.136
«То, чего требует природа, доступно и достижимо, потеем мы лишь ради избытка».137
Великое значение Сенека придавал философии, благодаря которой «можно стать себе другом», приобрести настоящее – душевное – здоровье, и, напротив, «не изучая мудрости, нельзя жить не только счастливо, но даже и сносно».138 При этом, философом надо быть не на словах, а на деле, тогда она выковывает и закаляет душу, упорядочивает жизнь. «Связывает ли нас непреложным законом рок, божество ли установило все в мире по своему произволу, случай ли без всякого порядка швыряет и мечет, как кости, человеческие дела, – нас должна охранять философия. Она даст нам силу добровольно подчиняться божеству, стойко сопротивляться фортуне, она научит следовать велениям божества и сносить превратности случая».139
Философия учит главному – правильному отношению к смерти, которая «настолько не страшна, что благодаря ей ничто для нас не страшно». В мире нет ничего страшного, кроме самого страха. «Смерть или уничтожает нас, или выпускает на волю».140
Избегать следует и другой крайности – сладострастной жажды смерти: « Мудрый и мужественный должен не избегать жизни, а уходить».141
Кто научился смерти, пишет Сенека, тот разучился быть рабом и стал свободным. Он выше и вне всякой власти, он способен следовать порыву души, который ведет мимо общепризнанных благ к высшему благу.

Первое издание на русском языке в своей области. Сегодня термин «вождь» почти повсеместно употребляется в негативном контексте из-за драматических событий европейской истории. Однако даже многие профессиональные философы, психологи и историки не знают, что в Германии на рубеже XIX и XX веков возникла и сформировалась целая самостоятельная академическая дисциплина — «вож-деведенне», явившаяся результатом сложного эволюционного синтеза таких наук, как педагогика, социология, психология, антропология, этнология, психоанализ, военная психология, физиология, неврология. По каким именно физическим кондициям следует распознавать вождя? Как правильно выстроить иерархию психологического общения с начальниками и подчиненными? Как достичь максимальной консолидации национального духа? Как поднять уровень эффективности управления сложной административно¬политической системой? Как из трусливого и недисциплинированного сборища новобранцев создать совершенную, боеспособную армию нового типа? На все эти вопросы и множество иных, близких по смыслу, дает ясные и предельно четкие ответы такая наука, как вождеведение, существование которой тщательно скрывалось поколениями кабинетных профессоров марксизма- ленинизма. В сборник «Философия вождизма» включены лучшие хрестоматийные тексты, максимально отражающие суть проблемы, а само издание снабжено большим теоретическим предисловием В.Б.
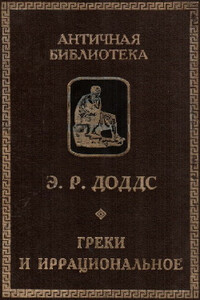
Книга современного английского филолога-классика Эрика Робертсона Доддса "Греки и иррациональное" (1949) стремится развеять миф об исключительной рациональности древних греков; опираясь на примеры из сочинений древнегреческих историков, философов, поэтов, она показывает огромное значение иррациональных моментов в жизни античного человека. Автор исследует отношение греков к феномену сновидений, анализирует различные виды "неистовства", известные древним людям, проводит смелую связь между греческой культурой и северным шаманизмом, и т.
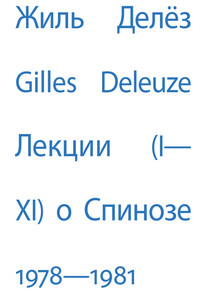
Спиноза (как и Лейбниц с Ницше) был для Делёза важнейшим и его любимейшим автором. Наряду с двумя книгами Делёз посвятил Спинозе курс лекций, прочитанных в 1978–1981 годы (первая лекция была прочитана 24 января 1978 года, а остальные с ноября 1980 по март 1981 года). В этом курсе Делёз до крайности модернизирует Спинозу, выделяя нужные для себя места и опуская прочие. На протяжении всех лекций Делёз анализирует, на его взгляд, основные концепты Спинозы – аффекцию и аффект; тему свободы, и, вопреки расхожему мнению, что у Делёза эта тема отсутствует, – тему смерти.

Опубликовано в журнале: «Звезда» 2017, №11 Михаил Эпштейн Эти размышления не претендуют на какую-либо научную строгость. Они субъективны, как и сама мораль, которая есть область не только личного долженствования, но и возмущенной совести. Эти заметки и продиктованы вопрошанием и недоумением по поводу таких казусов, когда морально ясные критерии добра и зла оказываются размытыми или даже перевернутыми.

В книге представлен результат совместного труда группы ученых из Беларуси, Болгарии, Германии, Италии, России, США, Украины и Узбекистана, предпринявших попытку разработать исследовательскую оптику, позволяющую анализировать реакцию представителя академического сообщества на слом эволюционного движения истории – «экзистенциальный жест» гуманитария в рушащемся мире. Судьбы представителей российского академического сообщества первой трети XX столетия представляют для такого исследования особый интерес.Каждый из описанных «кейсов» – реализация выбора конкретного человека в ситуации, когда нет ни рецептов, ни гарантий, ни даже готового способа интерпретации происходящего.Книга адресована историкам гуманитарной мысли, студентам и аспирантам философских, исторических и филологических факультетов.

Книга посвящена интерпретации взаимодействия эстетических поисков русского модернизма и нациестроительных идей и интересов, складывающихся в образованном сообществе в поздний имперский период. Она охватывает время от формирования группы «Мир искусства» (1898) до периода Первой мировой войны и включает в свой анализ сферы изобразительного искусства, литературы, музыки и театра. Основным объектом интерпретации в книге является метадискурс русского модернизма – критика, эссеистика и программные декларации, в которых происходило формирование представления о «национальном» в сфере эстетической.