Смерть моего врага - [12]
— Зачем?
— У меня было три экземпляра, — продолжал я. — Вот еще одна, номиналом в двадцать пфеннигов.
Я извлек из кучки свое последнее творение.
Он попытался ее взять и положить рядом с двумя другими, но я сказал:
— Эту ты не получишь, у меня нет второй такой.
— Жаль, — огорчился он.
— А может быть, все-таки есть.
— Теперь твоя очередь выбирать из моих, — сказал он.
— Ты берешь все три? — спросил я.
— А у тебя есть дубли всех трех?
— Да, — ответил я.
— Я беру только две, — объявил он, внезапно откладывая последнюю марку обратно, в общую кучку.
— Значит, две, — повторил я и перевел дух. — Теперь моя очередь.
— Я точно не знаю, есть ли у Артура Маврикий, — сказал он.
— Ты же сказал, что есть!
— Но я не знаю наверняка. Он мне про это рассказал. Может, соврал.
— А зачем ему врать?
— Может, ему нравится рассказывать красивые истории.
— Пусть нравится, но мы-то не обязаны ему верить.
— Ох, — только и сказал Фабиан.
Тем временем я нашел у него две марки с Азорских островов, две большие продолговатые почтовые марки. Они вовсе не были так уж красивы, но мне очень понравилось название «Азоры». Я представил себе, как там красиво, на этих островах, и решил, что когда-нибудь отправлюсь туда, чтобы убедиться в этом на месте. Кроме того, я точно знал, что они настоящие.
— Хочешь их взять? — спросил Фабиан.
— Они мне нравятся, но они не такие ценные, как те, что ты взял у меня, — сказал я.
Он колебался, глядя прямо перед собой.
— Можешь выбрать еще одну, — сказал он.
— Спасибо, — растроганно ответил я. — С твоей стороны это очень мило, Фабиан.
Я радовался, что он так высоко оценил мои марки. Ведь я натерпелся из-за них такого страха. Потом я убежал домой.
Примерно неделю спустя отец Фабиана явился в ателье моего отца. Это был высокий, стройный мужчина с густыми черными волосами и с пенсне на носу круглой, как луна, физиономии. При ходьбе он скрещивал руки за спиной, так что держался прямо, будто аршин проглотил, и вышагивал гордо, как на плацу. Он часто совершал продолжительные прогулки по городу, ни на кого не глядя, ни с кем не здороваясь. Потому что был глуховат и не слышал обращенных к нему приветствий.
— Я принес вам почтовые марки, — сказал он пронзительным, сдавленным голосом глухого.
И положил на стол две марки.
— Вот как? — изумленно ответил мой отец.
— Вы тоже коллекционируете? — спросил он инквизиторским тоном.
— Нет, — ответил мой отец.
— Эти марки фальшивые, — сказал он. — Это ясно и ребенку. Я хочу получить обратно те три, которые ваш сын выменял у Фабиана. Скажите ему.
Мой отец ничего не понимал в марках, но он тоже увидел подделку.
— Ваш сын — тот еще фрукт, — сказал отец Фабиана.
— Детские шалости, — ошеломленно пробормотал мой отец.
Гость этого не услышал.
— Всего хорошего, — сказал он и гордо удалился.
Сразу после него пришла его жена, мать Фабиана. Она была маленькая и изящная, темноволосая и всегда дружески озабоченная, как будто глухим был весь свет.
— Я тоже нахожу, что это дурно, — сказала она. — Но боюсь, мой муж немного переборщил. В конце концов, это дети. Понимаете, мой муж — заядлый коллекционер, и потому это его особенно задело. Скажите мальчику, пусть вернет марки.
— Да, мне тоже неприятно, — сказал мой отец. — Спасибо вам.
После обеда, когда я пришел из школы, отец появился в моей комнате.
— Ты менялся марками с Фабианом? — сказал он.
— Да.
— И у тебя есть детская типография, — продолжал он.
— Да, отец.
Я смотрел в пол, и только теперь, не смея больше взглянуть на него, я видел как бы его отражение на полу. Мясистые щеки бессильно и вяло повисли на лице, как у беззубого старика. Они были бледными и серыми, не плоть, а какая-то масса, какое-то тесто, из которого ушли жизнь и сила; глаза блуждали, в них больше не было твердой точки, откуда они смотрели. Их взгляд больше не устремлялся на меня из этой мертвой, вязкой плоти, он был направлен внутрь. Казалось, он смотрел не на меня, говорил не со мной, а как бы издалека, с кем-то далеким, и на него же смотрел. Отец тяжело дышал. Тонкая, серая, пузырчатая пленка пота прикрывала кожу, как папиросная бумага. В руке он сжимал связку ключей. Так сжимают резиновый мячик, из которого хотят выдавить воздух. Я очень боялся, что он меня побьет.
— Ты отнесешь Фабиану марки, — произнес он медленно хриплым голосом, почти дружески, как будто приглашал меня сделать это.
— Да, отец.
— Ты меня понял?
— Да.
«Ты меня понял?» — после этих слов всегда начиналась порка. Я ждал, что она последует и на этот раз, хотя он и говорил со мной таким хрипло-дружеским голосом. Я ждал. Больше того, я хотел, чтобы он меня выпорол. Когда я поднял глаза, он все еще стоял в прежней позе, наклонившись в мою сторону, и тяжело дышал. Я слышал, как он короткими толчками выдавливает изо рта дыхание. И потом он ушел, держа в правой руке связку ключей и сжимая ее, как мячик.
— Я принес тебе марки, — сказал я Фабиану.
Он сидел перед раскрытым альбомом и с удовольствием переворачивал листы.
— Ого, — только и сказал он, и его завиток на лбу запрыгал вверх-вниз.
— Я сам их надпечатал, — процедил я сквозь зубы.
— Ух ты, — сказал Фабиан. — Неужели сам?
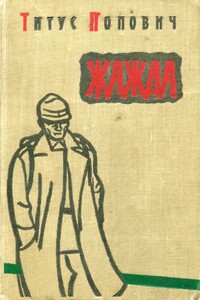
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
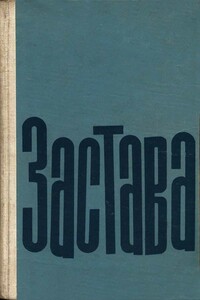
Бухарест, 1944 г. Политическая ситуация в Румынии становится всё напряженнее. Подробно описаны быт и нравы городской окраины. Главные герои романа активно участвуют в работе коммунистического подполья.alexej36.
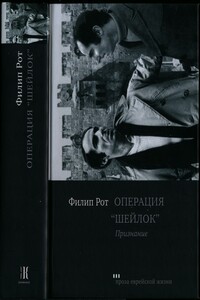
В «Операции „Шейлок“» Филип Рот добился полной неразличимости документа и вымысла. Он выводит на сцену фантастический ряд реальных и вымышленных персонажей, включая себя самого и своего двойника — автора провокативной теории исхода евреев из Израиля в Европу, агентов спецслужб, военного преступника, палестинских беженцев и неотразимую женщину из некой организации Анонимных антисемитов. Психологизм и стилистика романа будут особенно интересны русскому читателю — ведь сам повествователь находит в нем отзвуки Ф. М. Достоевского.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Холодная, ледяная Земля будущего. Климатическая катастрофа заставила людей забыть о делении на расы и народы, ведь перед ними теперь стояла куда более глобальная задача: выжить любой ценой. Юнона – отпетая мошенница с печальным прошлым, зарабатывающая на жизнь продажей оружия. Филипп – эгоистичный детектив, страстно желающий получить повышение. Агата – младшая сестра Юноны, болезненная девочка, носящая в себе особенный ген и даже не подозревающая об этом… Всё меняется, когда во время непринужденной прогулки Агату дерзко похищают, а Юнону обвиняют в её убийстве. Комментарий Редакции: Однажды система перестанет заигрывать с гуманизмом и изобретет способ самоликвидации.

Эта книга о тех, чью профессию можно отнести к числу древнейших. Хранители огня, воды и священных рощ, дворцовые стражники, часовые и сторожа — все эти фигуры присутствуют на дороге Истории. У охранников всех времен общее одно — они всегда лишь только спутники, их место — быть рядом, их роль — хранить, оберегать и защищать нечто более существенное, значительное и ценное, чем они сами. Охранники не тут и не там… Они между двух миров — между властью и народом, рядом с властью, но только у ее дверей, а дальше путь заказан.

В книгу, составленную Асаром Эппелем, вошли рассказы, посвященные жизни российских евреев. Среди авторов сборника Василий Аксенов, Сергей Довлатов, Людмила Петрушевская, Алексей Варламов, Сергей Юрский… Всех их — при большом разнообразии творческих методов — объединяет пристальное внимание к внутреннему миру человека, тонкое чувство стиля, талант рассказчика.

Роман «Эсав» ведущего израильского прозаика Меира Шалева — это семейная сага, охватывающая период от конца Первой мировой войны и почти до наших времен. В центре событий — драматическая судьба двух братьев-близнецов, чья история во многом напоминает библейскую историю Якова и Эсава (в русском переводе Библии — Иакова и Исава). Роман увлекает поразительным сплавом серьезности и насмешливой игры, фантастики и реальности. Широкое эпическое дыхание и магическая атмосфера роднят его с книгами Маркеса, а ироничный интеллектуализм и изощренная сюжетная игра вызывают в памяти набоковский «Дар».

Впервые на русском языке выходит самый знаменитый роман ведущего израильского прозаика Меира Шалева. Эта книга о том поколении евреев, которое пришло из России в Палестину и превратило ее пески и болота в цветущую страну, Эрец-Исраэль. В мастерски выстроенном повествовании трагедия переплетена с иронией, русская любовь с горьким еврейским юмором, поэтический миф с грубой правдой тяжелого труда. История обитателей маленькой долины, отвоеванной у природы, вмещает огромный мир страсти и тоски, надежд и страданий, верности и боли.«Русский роман» — третье произведение Шалева, вышедшее в издательстве «Текст», после «Библии сегодня» (2000) и «В доме своем в пустыне…» (2005).

Роман «Свежо предание» — из разряда тех книг, которым пророчили публикацию лишь «через двести-триста лет». На этом параллели с «Жизнью и судьбой» Василия Гроссмана не заканчиваются: с разницей в год — тот же «Новый мир», тот же Твардовский, тот же сейф… Эпопея Гроссмана была напечатана за границей через 19 лет, в России — через 27. Роман И. Грековой увидел свет через 33 года (на родине — через 35 лет), к счастью, при жизни автора. В нем Елена Вентцель, русская женщина с немецкой фамилией, коснулась невозможного, для своего времени непроизносимого: сталинского антисемитизма.