Смерть царя Кандавла - [14]
Скажите мне, но только правду, попросил меня Милош во время нашего единственного и долгого разговора, скажите мне, если бы вы обнаружили, что все, абсолютно все, одна огромная мистификация, как бы вы поступили? Я попытался объяснить ему, что вопрос поставлен совершенно неправильно. Так поставьте его правильно, предложил он мне и застыл в ожидании.
Оказавшись дома один, он спрыгнул с балкона пятого этажа. На Бискупскую улицу. Рассказывали, что его наскоро прикрыли газетами, ибо никому не хотелось — до приезда «скорой» — пожертвовать простыней или одеялом.
Хотя я знал Милоша совсем коротко и профессия клинициста-психолога усеяна самоубийствами, как портрет императора — мушиными каками, я переживал его гибель непривычно тяжело. Я озлился на весь мир, который с незапамятных времен благоволит разве что к прохиндеям, подлецам и бездушным тупицам.
Говорят, что такое может случиться с каждым психотерапевтом, что это лишь профессиональный кризис и ничего более. Но сколько бы раз я ни убеждал себя в этом, легче не становилось. Кто знает, может, виновато было то время. Так или иначе, но я не находил выхода. Возможно, мне надо было бы совершить какой-то поступок, который раз и навсегда помог бы мне все изжить или принять. И такой поступок стал бы определяющим (а потому бессмысленным!).
Если вы думаете, что «зверинец» Людвика был открыт каждому встречному, то ошибаетесь (разве что поначалу, пока «голубиная башня» не стала своего рода понятием). Людвик очень скоро завел неписаное, но неукоснительное правило: в салон можно было попасть только по приглашению или в сопровождении кого-либо из постоянных гостей.
И когда кто-то из широкого круга знакомых (или совсем не знакомых, но желавших использовать меня в качестве бациллоносителя, с чьей помощью легко, как инфекция, смог бы проскользнуть внутрь) просил меня представить его в салоне, я всегда вспоминал предупреждение Людвика: никого не приводить в салон без его предварительного согласия. И я, конечно, из отвращения к такому условию, отказывал всем без разбору.
Но ради Мартина я решил сделать исключение. Хотя мне было ясно, что как раз Мартина Людвик хотел бы видеть у себя меньше всего. Ведь Мартин считался не только самым успешным композитором своего поколения, он был еще и наделен мужской красотой, дары которой Бог так несправедливо распределил между нами.
Мартин положил на музыку для девичьего хора стихотворение Сватавы «В моем лоне спит луна» и вместе с двумя своими новыми сочинениями представил его на концерте в одном достойном клубе. Встретив там Сватаву с Людвиком, он, конечно, ждал, что его пригласят в «голубиную башню». И не будь меня, он ждал бы этого до сих пор.
Людвик принципиально не приглашал молодых, красивых и по-настоящему талантливых авторов (разве что не отказывал тем, кто приезжал из Праги и других столиц мира), он пополнял свой «зверинец», в основном, полными уродами, уродами наполовину, на четверть или, в крайнем случае, не очень привлекательными особями. И это не только потому, что красота Сватавы сияла бы на таком фоне еще ярче, но и потому — как вскоре я убедился, — что он не был до конца уверен в Сватаве. И визит Мартина я решил не обсуждать с ним.
Впервые я привел Мартина в салон в апреле 1968-го и сразу заметил, как он, скромно сидя в отблесках сковородок, суповых поварешек и надраенных шкафов, не сводит со Сватавы глаз. А если случалось, что кто-то ненароком загораживал ее прелестный лик, он решительно поднимался и переставлял свой стул с вырезанным сердечком туда, откуда поэтессу было хорошо видно.
И я понял, что этот молодой гений, за чью благосклонность совсем недавно дрались (кусались и царапались) две знаменитые брненские актрисы, безнадежно влюбился в Сватаву. Было ясно: впечатляющий контраст между дразнящей эротической поэзией и недоступностью весталки, непристойный пламень, обнесенный стеной кухонной целомудренности, вызывающая красота и отпугивающее равнодушие — все это пробуждало в нем безумное желание, парадоксально доводившее его до жалкого оцепенения. И Мартин, привыкший к тому, что девичьи груди залетают ему прямо в рот, сидел здесь тихо и лишь пожирал Сватаву голодными глазами.
Часть четвертая. В место катарсиса
Сватава Брюслерова Приношение Марине Цветаевой
В тот день, вернувшись из крематория, я еще ничего не понимал. И прошла не одна неделя, прежде чем я осмыслил то, что я там увидел и что для всех остальных могло означать лишь некую ритуальную экстравагантность, к которой они привыкли в «голубиной башне». В действительности это был сигнал, сигнал Сватавы, предназначенный только мне!
И я стал действовать решительно и быстро.

Роман популярнейшего чешского писателя Иржи Кратохвила «Бессмертная история, или Жизнь Сони Троцкой-Заммлер» недаром имеет подзаголовок «роман-карнавал». Через судьбу главной героини, которая, родившись в 1900 году, проживает весь XX век, автор-постмодернист показывает — порой крайне гротескно — пестрый калейдоскоп событий современной истории. Перед читателем проходит длинная вереница персонажей, как вымышленных, так и исторических (последний австрийский император Франц Иосиф и первый чехословацкий президент Томаш Масарик, русские революционеры Ленин и однофамилец героини Троцкий, позже Гитлер и Сталин…) Соня Троцкая-Заммлер не собирается умирать и в начале XXI века: ей еще предстоит передать людям наших дней важное послание от мудрейших людей позапрошлого столетия, некогда вложенное в нее знаменитым доктором Шарко.

Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.

Своими предшественниками Евгений Никитин считает Довлатова, Чапека, Аверченко. По его словам, он не претендует на великую прозу, а хочет радовать людей. «Русский Гулливер» обозначил его текст как «антироман», поскольку, на наш взгляд, общность интонации, героев, последовательная смена экспозиций, ироничских и трагических сцен, превращает книгу из сборника рассказов в нечто большее. Книга читается легко, но заставляет читателя улыбнуться и задуматься, что по нынешним временам уже немало. Книга оформлена рисунками московского поэта и художника Александра Рытова. В книге присутствует нецензурная брань!

Знаете ли вы, как звучат мелодии бакинского двора? А где находится край света? Верите ли в Деда Мороза? Не пытались ли войти дважды в одну реку? Ну, признайтесь же: писали письма кумирам? Если это и многое другое вам интересно, книга современной писательницы Ольги Меклер не оставит вас равнодушными. Автор более двадцати лет живет в Израиле, но попрежнему считает, что выразительнее, чем русский язык, человечество ничего так и не создало, поэтому пишет исключительно на нем. Галерея образов и ситуаций, с которыми читателю предстоит познакомиться, создана на основе реальных жизненных историй, поэтому вы будете искренне смеяться и грустить вместе с героями, наверняка узнаете в ком-то из них своих знакомых, а отложив книгу, задумаетесь о жизненных ценностях, душевных качествах, об ответственности за свои поступки.

Александр Телищев-Ферье – молодой французский археолог – посвящает свою жизнь поиску древнего шумерского города Меде, разрушенного наводнением примерно в IV тысячелетии до н. э. Одновременно с раскопками герой пишет книгу по мотивам расшифрованной им рукописи. Два действия разворачиваются параллельно: в Багдаде 2002–2003 гг., незадолго до вторжения войск НАТО, и во времена Шумерской цивилизации. Два мира существуют как будто в зеркальном отражении, в каждом – своя история, в которой переплетаются любовь, дружба, преданность и жажда наживы, ложь, отчаяние.

Книгу, которую вы держите в руках, вполне можно отнести ко многим жанрам. Это и мемуары, причем достаточно редкая их разновидность – с окраины советской страны 70-х годов XX столетия, из столицы Таджикской ССР. С другой стороны, это пронзительные и изящные рассказы о животных – обитателях душанбинского зоопарка, их нравах и судьбах. С третьей – раздумья русского интеллигента, полные трепетного отношения к окружающему нас миру. И наконец – это просто очень интересное и увлекательное чтение, от которого не смогут оторваться ни взрослые, ни дети.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.
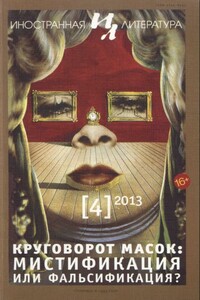
В рубрике «В тени псевдонимов» напечатаны «Жуткие чудо-дети» Линды Квилт.«Сборник „правдивых историй“, — пишет в заметке „От переводчика“ Наталия Васильева, — вышел в свет в 2006 году в одном из ведущих немецких издательств „Ханзер“. Судя по указанию на титульном листе, книга эта — перевод с английского… Книга неизвестной писательницы была хорошо принята в Германии, выдержала второе издание, переведена на испанский, итальянский, французский, португальский и японский языки… На обложке английского издания книги… интригующе значится: „Линда Квилт, при некотором содействии Ханса Магнуса Энценсбергера“».
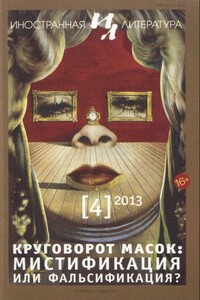
В рубрике «Документальная проза» — «Нат Тейт (1928–1960) — американский художник» известного английского писателя Уильяма Бойда (1952). Несмотря на обильный иллюстративный материал, ссылки на дневники и архивы, упоминание реальных культовых фигур нью-йоркской богемы 1950-х и участие в повествовании таких корифеев как Пикассо и Брак, главного-то героя — Ната Тейта — в природе никогда не существовало: читатель имеет дело с чистой воды мистификацией. Тем не менее, по поддельному жизнеописанию снято три фильма, а картина вымышленного художника два года назад ушла на аукционе Сотбис за круглую сумму.
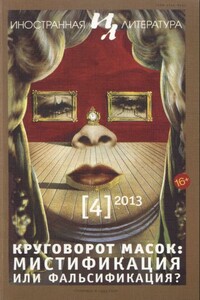
В рубрике «Классики жанра» философ и филолог Елена Халтрин-Халтурина размышляет о личной и литературной судьбе Томаса Чаттертона (1752 – 1770). Исследовательница находит объективные причины для расцвета его мистификаторского «parexcellence» дара: «Импульс к созданию личного мифа был необычайно силен в западноевропейской литературе второй половины XVIII – первой половины XIX веков. Ярчайшим образом тяга к мифотворчеству воплотилась и в мистификациях Чаттертона – в создании „Роулианского цикла“», будто бы вышедшего из-под пера поэта-монаха Томаса Роули в XV столетии.
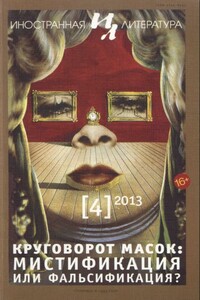
В рубрике «Мемуар» опубликованы фрагменты из «Автобиографии фальсификатора» — книги английского художника и реставратора Эрика Хэбборна (1934–1996), наводнившего музеи с именем и частные коллекции высококлассными подделками итальянских мастеров прошлого. Перед нами довольно стройное оправдание подлога: «… вопреки распространенному убеждению, картина или рисунок быть фальшивыми просто не могут, равно как и любое другое произведение искусства. Рисунок — это рисунок… а фальшивым или ложным может быть только его название — то есть, авторство».