Слуга господина доктора - [165]
— А если завтра будет дождь, — издалека начинал он, — мы все равно съедим промокашку?
— Нет, — отвечал я с деланной уверенностью, — промокашка хороша в погоду.
— А… — неопределенно тянул Стрельников и тотчас продолжал, — а может, все-таки съедим?
— Знаете что, тогда, пожалуй, без меня, — надувался я, недовольный, что нельзя сожрать промокашку прямо сейчас.
С утра хлынул ливень.
Стрельников прибежал на Арбат, опоздав двумя минутами к назначенному сроку. В глазах его был ужас разочарования, но тут же мы вперегонки стали уверять друг друга, что как пить дать дождь скоро кончится — если он такой сильный, не может же он идти весь день. У Даши восстановилось дыхание и мы пошли к Смоленке за Варечкой.
Явно дождь не собирался заканчиваться. На лужах вздувались пузыри, вода текла по переулку сплошным потоком, едва сдерживаемая бордюрным камнем. Варя, в неизменном пончо на кустодиевских плечах, сообщила, что успела промокнуть ногами. Сад старика Цыцына накрывался, и я неуверенно предложил зоологический музей. Обменявшись серьезными взглядами, все отправили в рот по промокашке, и Стрельников потребовал, чтобы его ссудили двадцатью пятью тысячами на очередные очки — он ничего не желал пропустить из сегодняшнего дня.
Как обычно, на подступах к музею все в четыре глотки принялись орать, что их не берет, что знакомо всякому любителю психоделиков. Музей, как водится, был забит дохлыми шкурками с паклей вместо нутра, отчаянно тянуло нафталином. Я заинтересовался скелетом малого полосатика, потом теткой, которая, невзирая на усугубляющийся нафталин, пила чай с бутербродами. Стрельников, покорный моей инициативе, изучал содержимое китового желудка, Варечка зычно хохотала промежду костей, ступая мокрыми туфлями. Было скучно и действительно «не брало».
Мы вновь оказались на улице, поливаемые из небесных хлябей, забрели в подворотню театра Маяковского, чтобы составить план. Там, в подворотне, мы минут сорок выбирали, идти ли нам в бар «Русские гвозди» или же по старинке в «Рози О’Гредис», с тем чтобы как всегда выбрать последний. Потом мы двинулись по Собиновскому переулку, пересекли Новый Арбат и далее пошли к Воздвиженке. Я был об руку с Варей, Даня с Мариной позади нас. И Марина и Даня вполне оживленно о чем-то шутили, кажется, они выдумали какой-то персонаж и сочиняли теперь ему биографию. Я огорченно подумал, что за ними нужен глаз да глаз — лишившись общества признанных остроумцев, Даня и Марина, скупенько одаренные юмором, снижали планку нашей компании. Впрочем, Даня и сам знал за собой, что Насреддин он тот еще, и прибавлял всякий раз, что это семейная черта. Марина, вопреки очевидному, упорствовала в доказательствах своего острословия — ах, никак не убедительно.
Москва была чужая, словно увиденная впервые: едва я увидел «Рози О’Гредис», как улыбнулся кабачку, словно старому знакомому. Я уже говорил Тебе, что в моей фантазии этот бар существует только под промокашкой. Я был бы удивлен войти в него как-нибудь, и чтобы при этом не качались стены, чтобы лица у людей не были особо розовы, чтобы вечная материя не перетекала за конечной формой предметов.
Мы, хохоча, заняли столик подле телевизора. «Как неловко, как неловко…» — повторял я себе, сдержанно улыбаясь. При этом, заметим, я полагал себя Вирджинией Вулф или кем-то из ее персонажей — в строгом платье, с точно подкрашенными губами, в вуале. Кем были остальные — не знаю. Надо полагать, что Марина опять была белой собакой или Пятачком — никакой изобретательности. Варвара поражалась видом чипсов и отнимала у Дани очки. Стрельников плакал всякий раз — глаза его наполнялись крупными слезами, и мне было приятно это видеть, потому что у него были очень красивые глаза.
— Ну-ка Даня, крошка моя, — обращалась к нему Варечка, сопровождая слова хватательным жестом, — дайте очки.
— Варечка, — умоляюще взывал Даня, — ну дайте мне посмотреть тоже, ну хоть немножечко…
— Даня, не капризничайте, — отрезала Варя, нацепляя предмет соперничества.
— Ну что же, — соглашался Даня, — тогда я, пожалуй, всплакну.
— Да, да, — оживлялся я, — только, пожалуйста, поплачьте слёзками.
— Хорошо, — покладисто кивал он и обливался слезами. Я внимательно смотрел ему в лицо, и мне казалось, что он слишком далеко от меня — хотелось придвинуться к нему и утешить, но это могло выглядеть непристойным, тем более что я был Вирджинией Вулф.
Потом Стрельников пошел писать и мне пришлось через четверть часа идти выручать его, пораженного красотой кафеля. Как ни странно, я самостоятельно дошел до туалета — видимо, во мне было слишком сильно чувство ответственности за студента — иначе я не решился бы. После того Стрельникову вздумалось прогуляться в одиночестве. Мне страшно было его отпускать, но я рассудил, что нельзя быть чрезмерно навязчивым в своей опеке и отпустил его. Он уходил минут на пять, перед чем мы вдвое дольше прощались. Я говорил, что буду ждать его не сходя с этого места и думать только о нем; он уверял, что непременно вернется, «только очень ждите». Он ушел, а я остался — на душе у меня стало тяжело и я даже едва не спел «Черного ворона», представляя стрельниковское мертвое тело на поле брани — все оружие разбито, голова мечом пробита, из гортани кровь течет, сбоку солнышко печет. Вняв Даниному примеру, ушла и Варечка, потом Марина пошла искать ее, а я, вконец расстроившись и растерявшись, утратив всех собеседников, выбежал на улицу и стал аукать Даню. Он не откликался, и я с тоской подумал, что утратил его навсегда. Поделиться горем мне было не с кем, потому что ни Вари ни Марины рядом не было, и я был уверен, что они уже не вернутся. Надо было забирать вещи и идти домой, но отчаяние мое превосходило способность физического действия. Я присел на тротуар и стал горевать. Из-за угла вышел Стрельников с сообщением, что он опять писал. Меня так поразило, что Даня часто писает, что я стал искать этому медицинское обоснование. Урология вообще слабое место у мужчин. А вдруг Даня заболеет и умрет? Мне хотелось поделиться с ним опасениями, но я боялся его напугать. Пусть уж лучше живет в неведении и погибнет молодым — не самый скверный конец.
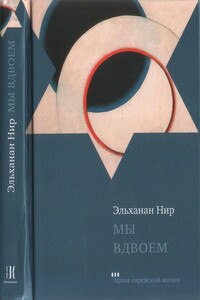
Пристально вглядываясь в себя, в прошлое и настоящее своей семьи, Йонатан Лехави пытается понять причину выпавших на его долю тяжелых испытаний. Подающий надежды в ешиве, он, боясь груза ответственности, бросает обучение и стремится к тихой семейной жизни, хочет стать незаметным. Однако события развиваются помимо его воли, и раз за разом Йонатан оказывается перед новым выбором, пока жизнь, по сути, не возвращает его туда, откуда он когда-то ушел. «Необходимо быть в движении и всегда спрашивать себя, чего ищет душа, чего хочет время, чего хочет Всевышний», — сказал в одном из интервью Эльханан Нир.
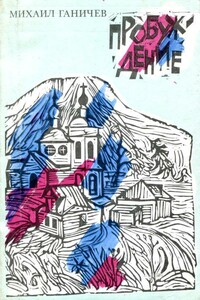
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.

Одна из лучших книг года по версии Time и The Washington Post.От автора международного бестселлера «Жена тигра».Пронзительный роман о Диком Западе конца XIX-го века и его призраках.В диких, засушливых землях Аризоны на пороге ХХ века сплетаются две необычных судьбы. Нора уже давно живет в пустыне с мужем и сыновьями и знает об этом суровом крае практически все. Она обладает недюжинной волей и энергией и испугать ее непросто. Однако по стечению обстоятельств она осталась в доме почти без воды с Тоби, ее младшим ребенком.

В сборник вошли рассказы разных лет и жанров. Одни проросли из воспоминаний и дневниковых записей. Другие — проявленные негативы под названием «Жизнь других». Третьи пришли из ниоткуда, прилетели и плюхнулись на листы, как вернувшиеся домой перелетные птицы. Часть рассказов — горькие таблетки, лучше, принимать по одной. Рассказы сборника, как страницы фотоальбома поведают о детстве, взрослении и дружбе, путешествиях и море, испытаниях и потерях. О вере, надежде и о любви во всех ее проявлениях.

Отчаянное желание бывшего солдата из Уэльса Риза Гравенора найти сына, пропавшего в водовороте Второй мировой, приводит его во Францию. Париж лежит в руинах, кругом кровь, замешанная на страданиях тысяч людей. Вряд ли сын сумел выжить в этом аду… Но надежда вспыхивает с новой силой, когда помощь в поисках Ризу предлагает находчивая и храбрая Шарлотта. Захватывающая военная история о мужественных, сильных духом людях, готовых отдать жизнь во имя высоких идеалов и безграничной любви.

Некий писатель пытается воссоздать последний день жизни Самуэля – молодого человека, внезапно погибшего (покончившего с собой?) в автокатастрофе. В рассказах друзей, любимой девушки, родственников и соседей вырисовываются разные грани его личности: любящий внук, бюрократ поневоле, преданный друг, нелепый позер, влюбленный, готовый на все ради своей девушки… Что же остается от всех наших мимолетных воспоминаний? И что скрывается за тем, чего мы не помним? Это роман о любви и дружбе, предательстве и насилии, горе от потери близкого человека и одиночестве, о быстротечности времени и свойствах нашей памяти. Юнас Хассен Кемири (р.