Слоны могут играть в футбол - [44]
— Мне очень приятно, что ты меня бережешь. Но всему свое время.
Потянула еще, и они скрылись в траве, стало плохо видно. Тот Дмитрий, который смотрел со стороны, привставал на цыпочки, тянулся, но разглядеть ничего не смог.
Они ушли словно в глубину реки, где совсем нечем дышать. И она дышала недолго, руки Дмитрия в траве обхватили ее шею, ей скоро не хватило воздуха.
Потом он встал, неуклюже поправил одежду. Было так странно видеть себя со стороны — хорошо, что рядом не было ни души, а то получилось бы неудобно. Причесал космы и, не оглядываясь, чуть не задев себя рукавом, прошагал в направлении усадьбы. Там он выставил в сторону руку — ту самую, которая только что сдавливала Ликину шею, и шел медленно, касаясь холодных мраморных девушек, как буддистский монах барабана. Потом захотел потрогать высунувшиеся к нему лошадиные морды, но лошади были живые, и он вспомнил, что у него ничего нет, чтобы дать им. Из живого он все-таки потрогал цветок, подаренный Ликой, стоящий на переднем сиденье — там, где недавно, живая, сидела она.
Через несколько часов он уже смотрел на облака сквозь иллюминатор самолета. Салон оказался почти пустым, так что толку от места в бизнес-классе не было — занимай любое и наслаждайся самым важным, что есть в жизни — личным пространством. Личного пространства были целые ряды влево и вправо, вперед и назад, а уж сколько его было за пределами самолета — не разглядеть и не измерить.
Иногда он с удовольствием разглядывал фотографии, распечатанные перед вылетом в той самой знакомой фотостудии. Лика на них хмурилась, улыбалась, взмахивала руками. На платье было видно каждую ниточку, каждый цветочек. Все-таки сейчас очень качественные камеры ставят в смартфоны. Это хорошо. Да. Пачка фотографий уютно устроилась на колене, на идеально отглаженной Ликой стрелке.
Кама появилась вдали нитью, потом лентой, стала совсем широкой, но тут же пропала, потому что самолет лег на другое крыло, закачал в колыбели, и еще какое-то время перед глазами виднелось только серое небо.
Он доехал на такси до знакомого пляжа за городом, но оказалось, что здесь уже тоже город: на другом берегу белели новые районы. Впрочем, этот берег оставался еще диким, и река не стала у́же. Зашел в проржавевшую кабинку. Здесь, наверное, давно никто не переодевался, кабинка выглядела, как упавший много веков назад звездолет. Переоделся, и ему показалось, что не было никакой жизни, что просто много лет назад зашел сюда, а вот сейчас вышел. День заканчивался, его плохо было видно у прибрежных деревьев, а потом, когда пошел по пляжу, стало плохо видно на пляже.
Кама — река очень широкая, холодных течений хватает, переплыть ее сложно. Он плыл, не оглядываясь, но считая взмахи рук. Сначала загадал себе оглянуться после ста, потом еще после ста. Потом решил не оглядываться. Набрал воздуха и нырнул. Тогда, в молодости, хоть это было и на спор, неподалеку шла лодка, друзья следили за ним, а сейчас никого не было: только он и глубина реки, которая глубже моря. По законам физики его стало выталкивать наружу, тогда он выпустил немного воздуха, потом еще. Глупость какая-то получалась: с одной стороны, нужен был воздух, чтобы долго продержаться и поставить рекорд, а с другой — именно воздух не давал погрузиться.
Не смотря на отдельные сложности, недочеты и недоработки, ему в целом понравилось, как прошла жизнь. Нужно было ее запомнить, чтобы вспоминать потом, когда все закончится. Получалось ли, что он сейчас сдается? Непонятно. Может быть, и нет. В конце концов, что он, Черчилль, никогда не сдаваться?
Первое июня заканчивалось, там наверху начиналось лето. Он открыл глаза, и хоть в такой воде сложно что-то увидеть, увидел: перед ним был он — молодой, худой, в новых, удачно купленных на рынке плавках — завис солдатиком, не двигался, чтобы сохранить силы, считал секунды. Тридцать, сорок, минута… Мало… Поспорил-то на три… Этот молодой, примерно понимая, сколько осталось времени, открыл глаза, увидел перед собой косматого и бородатого, очень похожего на себя человека. Рассмотрел с любопытством.
Сверху кричали. Ребята на лодке беспокоились, звали.
Можно было жить и прожить долгую жизнь, чтобы стать этим косматым, но с другой стороны: зачем делать что-то, если это можно легко представить? Молодой открыл рот, впустил воду в легкие. Пусть живут те, у кого нет фантазии.

Читателя этой книги, всегда забавной и страшной, ждет масса удовольствия, потому что главное читательское удовольствие ведь в узнавании. Все мы это видели, все понимали, а Сегал взял да и сказал. Думаю, что все эти рассказы и повесть сочинялись главным образом не ради будущих экранизаций и даже не для литературной славы, и уж подавно не для заработка, а в порядке самолечения. Если бы Сегал не написал все это, он бы сошел с ума. И тому, кто тоже не хочет сойти с ума, полезно прочитать и перечитать эту небольшую книжку, возможно, самую неожиданную за последние лет десять.

«Молодость» – блестящий дебют в литературе талантливого кинорежиссера и одного из самых востребованных клипмейкеров современной музыкальной индустрии Михаила Сегала. Кинематографическая «оптика» автора превращает созданный им текст в мультимир, поражающий своей визуальностью. Яркие образы, лаконичный и одновременно изысканный язык, нетривиальная история в основе каждого произведения – все это делает «Молодость» настоящим подарком для тонких ценителей современной прозы. Устраивайтесь поудобнее. Сеанс начинается прямо сейчас.

В книгу вошла малая проза М. Сегала, воплотившаяся в его фильме «Рассказы» и дополненная новыми сочинениями. В этом сборнике нет ни одного банального сюжета, каждый рассказ – откровение, способное изменить наше представление о жизни.
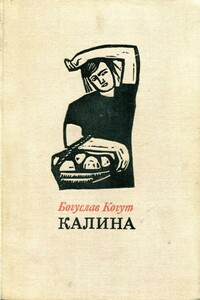
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Обложка не обманывает: женщина живая, бычий череп — настоящий, пробит копьем сколько-то тысяч лет назад в окрестностях Средиземного моря. И все, на что намекает этателесная метафора, в романе Андрея Лещинского действительно есть: жестокие состязания людей и богов, сцены неистового разврата, яркая материальность прошлого, мгновенность настоящего, соблазны и печаль. Найдется и многое другое: компьютерные игры, бандитские разборки, политические интриги, а еще адюльтеры, запои, психозы, стрельба, философия, мифология — и сумасшедший дом, и царский дворец на Крите, и кафе «Сайгон» на Невском, и шумерские тексты, и точная дата гибели нашей Вселенной — в обозримом будущем, кстати сказать.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Главный герой — начинающий писатель, угодив в аспирантуру, окунается в сатирически-абсурдную атмосферу современной университетской лаборатории. Роман поднимает актуальную тему имитации науки, обнажает неприглядную правду о жизни молодых ученых и крушении их высоких стремлений. Они вынуждены либо приспосабливаться, либо бороться с тоталитарной системой, меняющей на ходу правила игры. Их мятеж заведомо обречен. Однако эта битва — лишь тень вечного Армагеддона, в котором добро не может не победить.

Оксана – серая мышка. На работе все на ней ездят, а личной жизни просто нет. Последней каплей становится жестокий розыгрыш коллег. И Ксюша решает: все, хватит. Пора менять себя и свою жизнь… («Яичница на утюге») Мама с детства внушала Насте, что мужчина в жизни женщины – только временная обуза, а счастливых браков не бывает. Но верить в это девушка не хотела. Она мечтала о семье, любящем муже, о детях. На одном из тренингов Настя создает коллаж, визуализацию «Солнечного свидания». И он начинает работать… («Коллаж желаний») Также в сборник вошли другие рассказы автора.