Сладкая горечь слез - [8]
Крокодил понял, чего стоила ему кровожадность. Он потерял друга, а теперь еще никогда не получит фруктов, которые полюбил и к которым успел привыкнуть. Он зарыдал и взмолился о прощении. Но обезьяна не простила его. Она вновь была одинока. Но зато жива и в безопасности.
Рассказ окончен, мы с мамой некоторое время сидели молча, прислушиваясь к звукам из соседних домов: где-то мать зовет маленьких дочек, где-то хозяйка кричит на прислугу. Перед закатом последние уличные торговцы катили по улице свои тележки, расхваливая товар, от игрушек и сладостей до овощей и фруктов, — эта песня не смолкала от рассвета до заката.
Мы у них ничего не покупали. Но каждую неделю по утрам мы с мамой брали рикшу[6] и отправлялись на Сабджи Манди[7], овощной рынок. Выходя из дома, мама всегда покрывала голову шифоновой дупаттой[8]. На ближайшем перекрестке мы окликали тарахтящий трицикл с мотором, из тех, что во множестве колесили по Карачи. Вне маленького мирка нашего дома я чувствовал, как счастлива мама оказаться на воле, в толчее и сутолоке огромного мегаполиса. На рынке она ощупывала овощи и фрукты, нюхала их, а я, цепляясь за ее камиз[9], отвечал на «салам» торговцев, узнававших маму. Они добродушно хохотали, когда она качала головой, услышав цену, и якобы шепотом, но так, чтобы всем было слышно, принималась сокрушенно объяснять мне, что придется готовить эк[10] пьяза вместо дхо[11], потому что лук опять подорожал, да и вообще, пожалуй, стоит изменить рецепт, чтобы сэкономить. Торговцы называли маму «сестрой» или «дочкой», а она их — «брат» или «дядя». Я видел, как ей нравилось болтать с ними — анонимное знакомство, комфортно безопасное; она ведь большую часть жизни проводила в социальной изоляции, которой я и не замечал. Думаю, у мамы не было других друзей, кроме Мэйси и этих добрых мужчин.
Я был невероятно стеснительным ребенком; выйдя за порог дома, редко решался к кому-то обратиться. Помню, как наш любимый торговец, из тех, чьим ценам мама доверяла, все пытался разговорить меня.
— Эй, Баба[12], что ты будешь сегодня с мамой готовить, а?
Я тянул мамину дупатту, пытаясь накрыть ею голову, заворачивался в длинный шифоновый шарф, разглядывая мир сквозь разноцветную тончайшую ткань — темно-синюю, серую, зеленую, коричневую или белую в зависимости от цвета шальвар-камиз[13], которые мама надевала в тот день; хлопковые летом, льняные зимой, они всегда были строгих цветов вдовьей скорби, мрачные, но не черные, потому что черный — ритуальный цвет для мусульман-шиитов[14], разрешенный только в определенное время. Я внимательно всматривался в глаза мужчины, добрые, несмотря на разбойничьи усы, торчавшие над его верхней губой, темные, густые, грозно закручивающиеся на кончиках. Торговец смеялся надо мной, обнажая коричневые, изъеденные бетелем[15] зубы, и ласково улыбался маме, которая, тоже улыбаясь, настойчиво продолжала поднимать и переворачивать помидоры, проверяя их спелость, — она всегда очень внимательно относилась к тому, чтобы приятельский тон не противоречил неписаным правилам отношений между мужчинами и женщинами, высшим и низшим классами.
Дома мама готовила еду, потом принимала душ, смывая запах специй и лука с волос и кожи, а потом молилась, сменив шифоновое покрывало на белоснежный чадар[16], скрывавший все тело. Когда она склонялась в сажда[17], я порой взбирался ей на спину и крепко обхватывал за шею — эдакий пассажир на ее молитвенном пути. Она же оставалась неподвижна, прижав лоб к молитвенному коврику, терпеливо дожидаясь, пока что-нибудь отвлечет меня от занятой позиции, после чего возвращалась в сидячее положение для намаза[18]. Терпение ее было безгранично, и я знал, что я для нее — все.
Помимо базара единственным выходом в свет, который мы совершали каждую неделю, было посещение огромного дома, настоящего замка — жилища Аббаса Али Мубарака и его жены Саиды, моих дедушки и бабушки по отцовской линии.
Они присылали за нами машину каждую пятницу. Шофер, Шариф Мухаммад Чача, был братом нашей служанки, Мэйси. Прежде чем постучать в дверь, он всегда сообщал о своем появлении громким гудком. Пока мама умывала и причесывала меня перед отъездом, он беседовал с сестрой. Я забирался на заднее сиденье рядом с мамой, крепко брал ее за руку и всю дорогу жадно разглядывал улицы, по которым мы проезжали, — между домом, который считал своим, и особняком, откуда присылали автомобиль. В гостях мы с мамой сидели, тесно прижавшись друг к другу, на одном из четырех диванов — все резные, обтянутые синим бархатом, а гостиная освещена ярко сияющими люстрами. Бабушка — я называл ее Дади[19] — подавала мне угощение, игрушки и сладости, красиво упакованные, как подарки, как будто у меня каждую неделю был день рождения. Дада[20], дедушка, разговаривал со мной. Но я почти не отлипал от мамы, прятал лицо у нее в коленях, сколько ни пытались меня отвлечь.
Это, очевидно, раздражало Дади; ее губы, уже недовольно поджатые при появлении моей мамы, постепенно сжимались все плотнее, превращаясь почти в ниточку. Она сердито щурилась, глядя на мать своего внука, которую откровенно недолюбливала, и заявляла:

Однажды утром Майя решается на отчаянный поступок: идет к директору школы и обвиняет своего парня в насилии. Решение дается ей нелегко, она понимает — не все поверят, что Майк, звезда школьной команды по бегу, золотой мальчик, способен на такое. Ее подруга, феминистка-активистка, считает, что нужно бороться за справедливость, и берется организовать акцию протеста, которая в итоге оборачивается мероприятием, не имеющим отношения к проблеме Майи. Вместе девушки пытаются разобраться в себе, в том, кто они на самом деле: сильные личности, точно знающие, чего хотят и чего добиваются, или жертвы, не способные справиться с грузом ответственности, возложенным на них родителями, обществом и ими самими.

Жизнь в стране 404 всё больше становится похожей на сюрреалистический кошмар. Марго, неравнодушная активная женщина, наблюдает, как по разным причинам уезжают из страны её родственники и друзья, и пытается найти в прошлом истоки и причины сегодняшних событий. Калейдоскоп наблюдений превратился в этот сборник рассказов, в каждом из которых — целая жизнь.

История о девушке, которая смогла изменить свою жизнь и полюбить вновь. От автора бестселлеров New York Times Стефани Эванович! После смерти мужа Холли осталась совсем одна, разбитая, несчастная и с устрашающей цифрой на весах. Но судьба – удивительная штука. Она сталкивает Холли с Логаном Монтгомери, персональным тренером голливудских звезд. Он предлагает девушке свою помощь. Теперь Холли предстоит долгая работа над собой, но она даже не представляет, чем обернется это знакомство на борту самолета.«Невероятно увлекательный дебютный роман Стефани Эванович завораживает своим остроумием, душевностью и оригинальностью… Уникальные персонажи, горячие сексуальные сцены и эмоционально насыщенная история создают чудесную жемчужину». – Publishers Weekly «Соблазнительно, умно и сексуально!» – Susan Anderson, New York Times bestselling author of That Thing Called Love «Отличный дебют Стефани Эванович.

Действие романа разворачивается во время оккупации Греции немецкими и итальянскими войсками в провинциальном городке Бастион. Главная героиня книги – девушка Рарау. Еще до оккупации ее отец ушел на Албанский фронт, оставив жену и троих детей – Рарау и двух ее братьев. В стране начинается голод, и, чтобы спасти детей, мать Рарау становится любовницей итальянского офицера. С освобождением страны всех женщин и семьи, которые принимали у себя в домах врагов родины, записывают в предатели и провозят по всему городу в грузовике в знак публичного унижения.

Джозеф Хансен (1923–2004) — крупнейший американский писатель, автор более 40 книг, долгие годы преподававший художественную литературу в Лос-анджелесском университете. В США и Великобритании известность ему принесла серия популярных детективных романов, главный герой которых — частный детектив Дэйв Брандсеттер. Роман «Год Иова», согласно отзывам большинства критиков, является лучшим произведением Хансена. «Год Иова» — 12 месяцев на рубеже 1980-х годов. Быт голливудского актера-гея Оливера Джуита. Ему за 50, у него очаровательный молодой любовник Билл, который, кажется, больше любит образ, созданный Оливером на экране, чем его самого.
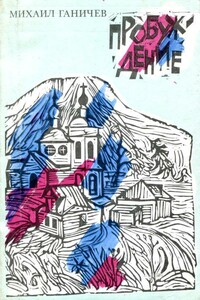
Михаил Ганичев — имя новое в нашей литературе. Его судьба, отразившаяся в повести «Пробуждение», тесно связана с Череповецким металлургическим комбинатом, где он до сих пор работает начальником цеха. Боль за родную русскую землю, за нелегкую жизнь земляков — таков главный лейтмотив произведений писателя с Вологодчины.