Скрытый сюжет: Русская литература на переходе через век - [14]
Но до Горенштейна еще мы дойдем, а сейчас вернемся к телефильму «Дети XX съезда».
Его героями стали Лев Карпинский, Егор Яковлев, Александр Бовин, Евгений Евтушенко, Юрий Буртин, Юрий Карякин. У каждого из них своя история, но создатели фильма точно уловили непередаваемое словами эмоционально-идейное единство своих героев. Оно проявлялось даже в манере говорить, чуть усталой и чуть горделивой. Мол, мы-то выстояли, хоть и кудри наши поредели. Они ощущали себя работниками. За ними стояло их дело: газеты, книги, стихи, статьи. Любой из них в отдельности, кстати, не был бы столь представителен. О страданиях Бовина, переведенного из ЦК на должность политического обозревателя «Известий», нельзя было подумать без улыбки. Но она тут же гасла, когда на экране возникал, скажем, Буртин.
Но вот уже после телефильма вышла книга одного из его героев, Ю. Карякина — «Достоевский и канун XXI века». Чтение этой книги, составленной практически из всего, Карякиным написанного, и сломавшей рамки литературоведения и исповеди, публицистики и проповеди… в общем, вставшей над жанрами, дает возможность проследить духовную судьбу шестидесятничества. И иллюзорность, утопичность целей, и попытку преодоления этой иллюзорности.
Первое, что становится очевидным: да, возвращение к двадцатым годам было важным этапом определения поколением своей ориентации. Важным, но не окончательным. Гораздо более глубинным стало определение ориентации по отношению к фундаментальным идеям двух русских писателей: Достоевского, чья «реабилитация» ознаменовала собой новый этап духовной жизни общества, и Солженицына, чья реабилитация путем публикаций началась только с конца 1989 года.
Имя и творчество Солженицына находились под строжайшим запретом. А Достоевский был милостиво «разрешен». И он работал. Как справедливо заметил чаще всего несправедливый Палиевский, не мы проявляем классику, а она нас. Цитата не дословная, но за точность передачи мысли ручаюсь. Поколение критиков-шестидесятников «проходило» Достоевского и Гоголя — в силу того, что было лишено возможности открыто «пройти» Солженицына и Домбровского, Пастернака и Гроссмана, Шаламова и Е. Гинзбург.
«Самообман Раскольникова» — так называлась первая книга, написанная Карякиным в конце шестидесятых. Я думаю, что недаром автор предпослал ей в качестве одного из эпиграфов следующие слова Достоевского: «Самопознание — это хромое наше место, наша потребность».
«В году 64-м, — вспоминал через четверть века автор, — мне подумалось впервые, что как бы остра ни была проблема сталинизма, это прежде всего проблема самосознания того общества, которое его, сталинизм, создавало и признавало, то есть это проблема и конкретного самосознания конкретных людей, то есть и моя проблема. И мне почему-то показалось (в значительной мере чисто интуитивно), что если мне удастся хоть как-нибудь разобраться в самосознании Раскольникова, то это самосознание и может явиться как бы элементарной (точнее — элементной) клеточкой, моделью самосознания вообще».
А еще точнее — моделью самосознания шестидесятника, уперевшегося в неразрешимое — кровь.
«Как раз в самосознании людей, пытавшихся разобраться в нашем тяжелом кровавом историческом опыте, и была — неопределенность. Как раз и хотелось ее — уничтожить… И это познание себя через Достоевского оказалось отнюдь не веселым».
Шестидесятые годы останутся в истории нашей литературы не только эпохой утверждения правды как главного закона этики и эстетики, но и эпохой создания разветвленной эстетической системы для высказывания этой правды, то бишь эзопова языка. Со второй половины шестидесятых он становился все более изощренным и хитроумным, так как правду все сложнее было донести до читателя прямо.
«Самообман Раскольникова» стал эзоповым словом Карякина о нашей «ближней» истории и современной действительности.
Убийство «с целью грабежа, так как чувствовал бедность» — не к истории ли Октябрьского переворота и затем Гражданской войны приложимы эти слова?
Мысль шестидесятника углубляется в исторический процесс. Нет, прямых аналогий в книге нет, но они с неизбежностью возникали в сознании читателя, желанного и необходимого соавтора для эзоповского текста, бывшего одновременно и мучением, и спасением для самого автора.
Можно сказать, что Достоевский был избран на роль своеобразной ширмы для опасных заявлений.
Вчитаемся, например, в следующий абзац:
«Всеобщность самообмана и придает ему видимость всеобщей правды. Ненормальность кажется нормой, болезнь — здоровьем, и наоборот. Реальности замещаются фантомами, а фантомы действуют как реальности. Все отчуждается. Все переворачивается. Все переименовывается, лишь бы не быть узнанным. Все — в масках, и маски эти уже приросли к лицам, и нельзя их уже просто снять, не сдирая вместе с кожей. Идет жуткий маскарад, принимаемый его участниками за доподлинную действительность. Все лучшее в человеке превращается в худшее. Все худшее выдается за лучшее. Бессовестность почитается "умом", совесть — "глупостью". Самоутверждение приводит к убийству. Самосохранение достигается такой ценой, что грозит сделаться самоубийственным. Человеколюбец становится человеконенавистником. Все ориентиры нравственные — сбиты, все "компасы" — подделаны».

Критик Наталья Иванова известна своими острополемическими выступлениями. В ее новой книге ведется разговор об исканиях и «болевых точках» литературного процесса последних лет. В центре внимания писатели, вокруг которых не утихают споры: Юрий Трифонов, Чингиз Айтматов, Виктор Астафьев, Василь Быков, Фазиль Искандер, Андрей Битов, Валентин Распутин, Владимир Маканин.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
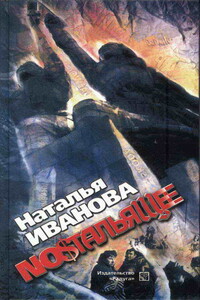
Известный культуролог, эссеист, литературный критик Наталья Иванова тщательно собирает и анализирует тот материал, который предоставляет массовая культура: телевизионная реклама, ее герои, сюжеты и мотивы; изобразительный язык городской рекламы, слоганы; использование в рыночной культуре советских брендов, клише и стереотипов; монументальная пропаганда; изменение годового праздничного календаря и сохранение советской символики, вот лишь часть сюжетов этой увлекательной книги.Во второй части книги Наталья Иванова собирает свои наблюдения нового путешественника.

Наталья Иванова – один из самых известных литературных критиков современной России. Постоянно печатает эссе о литературе в журналах России и Европы, ведет именную колонку на Интернет-портале «OpenSpace». Автор множества статей и десяти книг о современной русской прозе, а также монографий и телефильмов, посвященных Борису Пастернаку. Руководитель проектов «Премии Ивана Петровича Белкина» и «Русское чтение». Новую книгу Натальи Ивановой составили ее статьи, эссе и заметки о литературе и литературной жизни последних лет.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«Спасибо, господа. Я очень рад, что мы с вами увиделись, потому что судьба Вертинского, как никакая другая судьба, нам напоминает о невозможности и трагической ненужности отъезда. Может быть, это как раз самый горький урок, который он нам преподнес. Как мы знаем, Вертинский ненавидел советскую власть ровно до отъезда и после возвращения. Все остальное время он ее любил. Может быть, это оптимальный модус для поэта: жить здесь и все здесь ненавидеть. Это дает очень сильный лирический разрыв, лирическое напряжение…».

«Я никогда еще не приступал к предмету изложения с такой робостью, поскольку тема звучит уж очень кощунственно. Страхом любого исследователя именно перед кощунственностью формулировки можно объяснить ее сравнительную малоизученность. Здесь можно, пожалуй, сослаться на одного Борхеса, который, и то чрезвычайно осторожно, намекнул, что в мировой литературе существуют всего три сюжета, точнее, он выделил четыре, но заметил, что один из них, в сущности, вариация другого. Два сюжета известны нам из литературы ветхозаветной и дохристианской – это сюжет о странствиях хитреца и об осаде города; в основании каждой сколько-нибудь значительной культуры эти два сюжета лежат обязательно…».
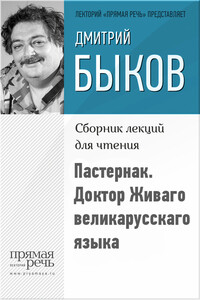
«Сегодняшняя наша ситуация довольно сложна: одна лекция о Пастернаке у нас уже была, и второй раз рассказывать про «Доктора…» – не то, чтобы мне было неинтересно, а, наверное, и вам не очень это нужно, поскольку многие лица в зале я узнаю. Следовательно, мы можем поговорить на выбор о нескольких вещах. Так случилось, что большая часть моей жизни прошла в непосредственном общении с текстами Пастернака и в писании книги о нем, и в рассказах о нем, и в преподавании его в школе, поэтому говорить-то я могу, в принципе, о любом его этапе, о любом его периоде – их было несколько и все они очень разные…».

«Ильф и Петров в последнее время ушли из активного читательского обихода, как мне кажется, по двум причинам. Первая – старшему поколению они известны наизусть, а книги, известные наизусть, мы перечитываем неохотно. По этой же причине мы редко перечитываем, например, «Евгения Онегина» во взрослом возрасте – и его содержание от нас совершенно ускользает, потому что понято оно может быть только людьми за двадцать, как и автор. Что касается Ильфа и Петрова, то перечитывать их под новым углом в постсоветской реальности бывает особенно полезно.
