Скошенное поле - [155]
— Заплатишь за это! — прошипел хозяин. — Буду тебя преследовать до самой могилы, душу из тебя вытрясу, так и знай!
— Можешь, хозяин. Ты и так все у меня отнял — на что мне одна душа! Но берегись, нет такой силы, которой не пришел бы конец!
Жандармы толкнули его, и он пошел. Но вдруг обернулся к крестьянам, толпой следовавшим за ним, и сказал:
— Не надо, братья! Вернитесь, не теряйте времени. А ты, жена, брось реветь, ступай домой и смотри за детьми.
Он был спокоен. Из поврежденного шрама по небритому лицу текла тонкая струйка крови. Никто не подошел ее вытереть. При виде этой крови, которую никто не хотел вытереть, несказанная мука наполнила сердце Ненада.
Пока жандармы с Милией не исчезли за поворотом, все стояли неподвижно и глядели как заколдованные. Даже газда Пера не двинулся, пока дорога не опустела. Тогда он выругался и пошел в кафану умыться.
— Что ж, сударь, больше не хочешь, противно стало? Да брось ты. — Газда Пера, засунув руки в карманы, поглядывал на Байкича с усмешкой. — Собирался тебя развлечь, да что поделать, раз ты не хочешь! Но если говорить начистоту, так ты уж довольно нагляделся; расскажи им, там в Белграде, что здесь не летают жареные жаворонки, не текут молочные реки в кисельных берегах, а что бьемся мы тут не на живот, а на смерть. Смилян даст тебе повозку, ты и возвращайся. А мне надо дальше.
Он влез в свой форд, и через минуту над дорогой взвился столб пыли, который долго еще стоял в воздухе.
Проезжая мимо тока, Байкич остановил возницу, чтобы посмотреть на пожарище. И очень удивился, когда ему показали между скирд кучку золы не больше четырех шагов в квадрате.
— Он поджег хлеб, его хлеб и сгорел.
Конь был норовистый. Останавливался, когда ему вздумается, не двигался с места минут по десять, хоть его и хлестали кнутом. Кругом простирались поля, нивы, пастбища, в безветрии шумела листьями кукуруза, слабо доносилось журчание воды на мельнице, жирные перепелки лениво взлетали со жнивья и садились чуть подальше, радуясь жизни. Байкич добрался до городка, весь в пыли, обливаясь потом, только около полудня и сейчас же принялся писать статью о волнении, возникшем в народе из-за внезапного падения репарационных облигаций. Он продиктовал ее по телефону Шопу и поспешил на поезд. Статью он озаглавил: «Праздник урожая».
— Почем сегодня репарационные облигации? — спросил Байкич, кончая разговор.
— Вчера были сто двадцать; сегодня при открытии — сто десять, при закрытии — только сто. Это ваша статья вызвала бучу.
— Какая статья? Она вовсе не моя, у меня было всего-навсего интервью и больше ничего! — Значит, эта глупая история с версткой еще не кончена. — Что еще нового?
— Редактор несколько раз спрашивал о вас, нервничает, что вы пропали и что от вас четыре дня не было вестей.
— Ах, так? Благодарю вас, Шоп.
В поезде была страшная духота. Байкич старался сосредоточиться, но ему это не удавалось. Газда Пера, Милия, молотьба, согбенные фигуры людей, падение облигаций и заем под будущий урожай — все это бурно клокотало в его мозгу. Иногда ему казалось, что его статья, только что переданная по телефону, недостаточно ясна и чересчур резка, к тому же слишком одностороння.
«Я был свидетелем исключительного случая, исключительного как в отношении газды Перы, так и Милии», — думал он. Но его мозг сверлила и другая мысль: «Деспотович опирается в своей политике на таких людей, как газда Пера». Байкич старался отогнать эту мысль, но снова и снова перед ним возникало сооружение: внизу народ, над ним все эти газды Пера, Йовы, попы и их племянники-судьи, двоюродные братья старших жупанов, а на самом верху пирамиды — Деспотовичи и Солдатовичи. Байкич вышел из купе первого класса и пошел по вагонам. Прислушивался к разговорам людей, сам вступал в беседы, и всегда более или менее ясно выступали следы двух противоположных мнений: газды Перы и Милии. В одном поезде ехали представители двух вражеских лагерей. А в большинстве люди попросту не знали, к какому из лагерей они принадлежат.
Ниш был тихий и мирный городок. Байкич отыскал дом, где они когда-то жили. В сумерках он увидел большую виноградную лозу, низкие окна, крыльцо, на котором бабушка вытряхивала из вещей насекомых, развесистое абрикосовое дерево. И все это ему показалось очень маленьким, словно вросшим в землю. Под виноградной лозой ужинала целая семья. Мужчины были в одних рубашках, детвора шумела. Ненад не смог признать среди женщин Васки. Огорченный, он пошел дальше. Пожарища, где они играли, больше не было. Ни дома в заглохшем саду, где как-то вечером они с Войканом увидели красивую обнаженную женщину. Окончив это сентиментальное паломничество, Байкич по записке Бурмаза разыскал человека, которого ему надлежало посетить в Нише. Господин этот оказался весьма сдержанным, пригласил его ужинать в кафану близ Железного моста и только за бутылкой вина, под музыку цыган рассказал ему, что Ниш потихоньку строится, нужен только капитал, что теперь уж не работают, как работали раньше, народ обленился и все время требует каких-то прав, что отечественная промышленность постепенно развивается, но к ней не проявляют достаточно интереса. Все сведения были весьма незначительны. И Байкич понял, что если бы он стал писать статью о Нише, то принужден был бы говорить о прошлом — о болезнях, о грязи, о черных флагах, о беженцах. Прежде чем расстаться, Байкич спросил сдержанного господина, будут ли у него поручения в Белград. Тот сначала долго выбирал сигарету, потом еще дольше и внимательнее зажигал ее и, наконец, с расстановкой ответил:

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Ему не было еще тридцати лет, когда он убедился, что нет человека, который понимал бы его. Несмотря на богатство, накопленное тремя трудовыми поколениями, несмотря на его просвещенный и правоверный вкус во всем, что касалось книг, переплетов, ковров, мечей, бронзы, лакированных вещей, картин, гравюр, статуй, лошадей, оранжерей, общественное мнение его страны интересовалось вопросом, почему он не ходит ежедневно в контору, как его отец…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
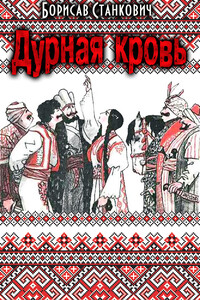
Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейший представитель критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В романе «Дурная кровь», воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, автор осуждает нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
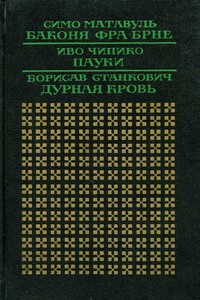
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.