Скошенное поле - [154]
Маленький крестьянин боязливо поглядывал на человека со шрамом. Боясь, очевидно, что тот и дальше будет откровенничать, он заметил спокойно, примирительно:
— Никто как бог, Милия… и это все пройдет.
Милия сверкнул глазами.
— Да что с тобой, брат, спятил, что ли? Бог… Эта замечательная ночь, чернозем, дожди и ветры — от бога. Как наливается пшеница, как цветет слива, как пчела собирает мед — от бога. Реки текут и леса растут — все это от бога. Но проценты, заклад зеленей — это уже не от бога! И то, что я должен работать, а другие — собирать урожай, — тоже не от бога! И не может это по-божески кончиться!
Милия поднялся. Худой, костлявый, но высокий и гибкий; от него веяло энергией, силой.
— Скоро мой черед молоть. Прощайте, сударь. И, когда будете писать в газетах, пишите правду. Напишите и о нас, крестьянской бедноте. Бывали у нас и другие журналисты, выслушивали наши жалобы, а потом писали в газетах о хозяевах, о попах да об их жеребцах. Прощайте!
Милия уже переходил через поле, когда низенький крестьянин начал тушить костер. Он был, оказывается, хромой.
— Дивишься, что я такой… Это меня бык угораздил, когда я маленьким был, так вот и остался. — И со смущенной улыбкой он заковылял рядом с Байкичем.
Байкич ничего не ответил. Светлая ночь постепенно одевалась в голубоватые туманы. Возле молотилки все было по-старому: кочегар топил локомобиль, приводной ремень извивался, как змея, на молотилке парни продолжали свою опасную работу, женщины и мужчины разваливали скирды и подавали вилами снопы, человек, стоявший у весов, таращил глаза с красными веками на раскрытую книгу счетов. Новым было только то, что в сторонке, около скирды, тихо стонал какой-то парень с забинтованной по локоть рукой. Да то еще, что возле другой скирды газда Пера спорил с Милией. Он заметил Байкича и торопливо подошел к нему.
— Ты устал небось, сударь, иди-ка спать, завтра дальше отправимся. А мне надо побыть тут с этими жуликами. Сплошные жулики! Если бы могли, прямо у тебя на глазах крали бы. А ты пойди выспись. Тебя отведет парень к моему куму. Тут за рекой.
Газда Пера говорил с ним, как показалось Байкичу, отечески. Кто разберет этих людей, черт бы их побрал! А может быть, так кажется ему из-за усталости, которая снова его охватила. Он был разбит и засыпал на ходу. Перед его глазами все кружилось в лунном свете. Он перешел реку по бревнам совсем как лунатик. Если бы остановился, то упал бы в воду. Несколько раз он спрашивал парня, шедшего впереди, далеко ли еще, и заспанный парень неизменно отвечал: «Тут, за горой». Байкич едва сообразил, что они, наконец, дошли. Видел свечу, человека, который ее нес; нащупал кровать и повалился на нее.
Он должен был приложить большие усилия, чтобы природу и людей поставить на надлежащее им место: в волшебном лунном свете люди казались великанами, заповедники — девственными лесами, холмы — горами; река, сверкавшая под косыми лучами солнца, ночью казалась ему гораздо шире. От таинственного не осталось и следа: слышались четкие, простые голоса, длинной вереницей по шоссе тарахтели тяжело нагруженные телеги; гремели посудой, пели девушки на кухне, где-то рядом, на конюшне, лошади ржали и били копытами о каменный пол, устланный соломой.
— Что такое? Что случилось? — спросил Байкич не своим голосом.
Хозяин кафаны посмотрел на него мрачно. На крыльце толпились человек десять крестьян, усталых и грязных. Среди них, подобрав рясу, стоял священник.
— Подожгли пшеницу, вот что случилось! — ответил, оглянувшись, хозяин кафаны.
По шоссе, в облаках пыли, приближалась группа людей; в черной массе ярко сверкали штыки на винтовках двух жандармов. Женские причитания наполняли утреннее небо. Лица крестьян, стоявших на крыльце, были хмуры. И они и Байкич молча смотрели на медленно приближавшуюся толпу. Теперь уже можно было разглядеть отдельные лица. Вдруг у Байкича захватило дыханье: человек в наручниках, который шел между серыми мундирами жандармов, был Милия. Рубашка на медной шее была разорвана; потный, весь в грязи, он шел ровной и легкой походкой. Немного позади, тем же шагом, двигалось все шествие. И только маленькая женщина в желтом платке то забегала вперед, то семенила сбоку, поминутно спускаясь в канаву. Но никто, даже Милия, не обращал внимания ни на нее, ни на ее причитания. Только когда толпа остановилась у крыльца кафаны, Байкич заметил газду Перу. Он был без шляпы, в разорванной и перепачканной рубашке, волосы прилипли ко лбу, глаза налиты кровью, лицо и руки черные от копоти. Запыхавшись, он сел у стены на скамью.
— Зачем ты грех на душу взял, Милия? — воскликнул с упреком священник.
— Горе мне, Милия, глаза бы на тебя не глядели, осрамил ты нас! — причитала женщина.
— Грех на душу взял? Только не я! — мрачно ответил Милия священнику, взглянув ему вдруг прямо в глаза.
— Хлеб-то божий, чтоб у тебя руки отсохли!
— Брось, поп! — перебил Милия. — Не мой и не божий.
— Зато мой, мой! — взвизгнул газда Пера и с безобразными ругательствами кинулся к Милию.
Но не успел он даже руки поднять, как Милия в наручниках замахнулся на него; послышался лязг. Удар пришелся прямо в лицо. Газда Пера зашатался, вытер рукой кровь, которая текла из носа по усам и бороде, потом, несмотря на то что жандармы уже держали Милию, кинулся на него и изо всей силы ударил кулаком по голове. Маленькая женщина заголосила, какие-то люди подбежали, схватили за руки разъяренного хозяина и оттащили от Милии. Несколько секунд оба противника в упор смотрели друг на друга.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Ему не было еще тридцати лет, когда он убедился, что нет человека, который понимал бы его. Несмотря на богатство, накопленное тремя трудовыми поколениями, несмотря на его просвещенный и правоверный вкус во всем, что касалось книг, переплетов, ковров, мечей, бронзы, лакированных вещей, картин, гравюр, статуй, лошадей, оранжерей, общественное мнение его страны интересовалось вопросом, почему он не ходит ежедневно в контору, как его отец…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
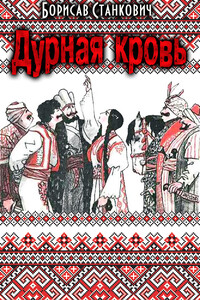
Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейший представитель критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В романе «Дурная кровь», воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, автор осуждает нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
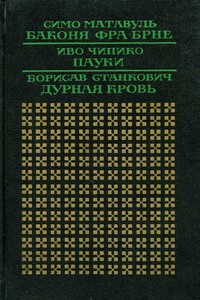
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.