Скошенное поле - [152]
Когда он пришел в себя, то увидел толпу людей, освещенных огнем. Форд стоял в узкой темной улице между приземистыми четырехугольными домами. Луна, похожая на отшлифованный кусок стали, плыла среди прозрачных облаков высоко-высоко в небе и все же, казалось, не двигалась с места. Наконец, от резкого запаха горелой соломы и пшеничной пыли Байкич совсем проснулся. Чувство отвращения и тошноты прошло, но он ощущал страшную усталость, слабость, одиночество. Это не помешало ему ясно разглядеть локомобиль, в чью красную пасть какой-то человек, весь озаренный пламенем, без устали запихивал все новые и новые охапки соломы; маховое колесо, черную змею приводного ремня, темный силуэт молотилки, на крыше которой вырисовывались на фоне светлого неба две крепкие и высокие фигуры. Они работали, согнувшись, и большой серп то и дело сверкал, разрезая свяслы снопов. Байкич увидел и других людей — одни, напрягаясь всем телом, кидали снопы на молотилку, другие разбирали то, что ему показалось домами, третьи в облаках пыли и мякины насыпали и завязывали мешки с зерном, четвертые при свете карбидной лампы взвешивали мешки на больших весах. Худощавый человек с испитым лицом, с белыми от пыли ресницами, записывал при свете фонаря цифры. Над ним в жадном упоении нагнулся газда Пера и, шевеля губами, следил, что он записывает. Локомобиль добродушно попыхивал, из его стальной трубы вылетали густые снопы искр; в полумраке чей-то высокий и нежный тенор мурлыкал грустную песню. Байкич вылез из машины и пошел между скирдами. В теплой соломе, приятно пахнувшей солнцем, спали парни и девушки. Смущенный величиной скирд, Байкич в страхе пролезал по узким проходам, которые походили ночью на глубокие пахучие ущелья. Наконец, он выбрался на открытое место. Перед ним расстилалось скошенное поле с темной полосой ив у реки. Под деревьями мелькал огонек костра. Возле него — две мужские фигуры. У самого берега стояла повозка с бочками, которые двое других мужчин наполняли водой. Байкич двинулся по направлению к костру. Стук локомобиля доносился сюда, как дыхание огромного заснувшего животного, сверчки трещали в жнивье, от реки шел запах гниющих прибрежных растений и рыбы. Байкич поздоровался с крестьянами. Это были старики или казались таковыми из-за того, что уже с неделю не брились. Одетые в поношенные и порванные куртки, они сидели на толстых корнях ив, размытых водой. Оба курили и, прищурившись, смотрели, как, извиваясь между сухими ветками, вспыхивали то красные, то лиловатые язычки пламени. Крестьяне спокойно ответили на приветствие Байкича, а один подвинулся, давая ему место. Под низко нависшими ветками поблескивала гладкая, в красных отблесках река. Течения не было заметно.
— Ты что… может, и ты скупаешь репарационные облигации? — опасливо спросил один из крестьян.
— А разве кто покупает? — спросил Байкич, вздрогнув.
— Да есть такие… много их, налетели, как саранча.
— Когда?
— Да со вчерашнего дня. Предлагают швейные машины, деньги, какие-то маслобойки — кому что надо. Напустились на женщин, а они народ беззащитный, испугались, что облигации совсем потеряют цену, и спускают что могут. Милан Николич даже ездил вчера в Крагуевац, но там дают только по пятьдесят — шестьдесят динаров. Разорение.
— Слыхать, и газда Пера принимает облигации, но этот за старые векселя, — сказал другой крестьянин, плюнув в огонь. — Кто ему должен, не получает наличными, а разделывается таким путем за старые долги. А нам нужны деньги — налоги надо платить, чтобы не распродали скотину, обувь надо купить на зиму, соли.
— А ты почем покупаешь? — спросил первый, повернув лицо к Байкичу.
Это был крепкий мужчина, лет за сорок, с энергичным сухощавым лицом. Под белокурой бородой через всю щеку виднелся большой синий шрам. Рубец плохо зашитой в свое время раны стягивал мочку уха и глаз, отчего у этого человека был неприятный оскал. Другая же половина лица, на которую Байкич и старался все время смотреть, была правильная и даже красивая — прямой нос, чувственный и выразительный рот под взъерошенными усами и светло-голубые глаза, в которых отражалось пламя костра.
— Я… я ничего не покупаю, приятель. Я… так себе приехал, посмотреть, как вы живете. Я журналист.
— А у меня еще есть двадцать штук, — сказал с сожалением крестьянин со шрамом и отвернулся к огню.
Байкич был слегка озадачен: он думал, что крестьяне удивятся, узнав, что он журналист, а они даже внимания не обратили. Тут подошли те двое, что наполняли бочки водой, поздоровались с Байкичем и подсели к костру погреть босые ноги; грубыми, узловатыми пальцами они скрутили сигареты, молча затянулись два-три раза, один из них заметил, что и завтра погода не изменится; посидели немного и ушли, медлительные, неуклюжие, в штанах, засученных выше колен. Минуту спустя Байкич услышал, как повозка с водой стала удаляться под унылый скрип колес. И снова тишина, сверчки, скошенное поле, озаренное лунным светом, в глубине его темная масса снопов, сложенных в скирды, а посередине пышущее жаром дыхание молотилки.
— За швейную машину, — сказал, вздохнув, крестьянин поменьше ростом, — они просят три с половиной тысячи, а одну облигацию считают за восемьдесят динаров. Если же хочешь наличными, так всего только пятьдесят.

«Полтораста лет тому назад, когда в России тяжелый труд самобытного дела заменялся легким и веселым трудом подражания, тогда и литература возникла у нас на тех же условиях, то есть на покорном перенесении на русскую почву, без вопроса и критики, иностранной литературной деятельности. Подражать легко, но для самостоятельного духа тяжело отказаться от самостоятельности и осудить себя на эту легкость, тяжело обречь все свои силы и таланты на наиболее удачное перенимание чужой наружности, чужих нравов и обычаев…».

«Новый замечательный роман г. Писемского не есть собственно, как знают теперь, вероятно, все русские читатели, история тысячи душ одной небольшой части нашего православного мира, столь хорошо известного автору, а история ложного исправителя нравов и гражданских злоупотреблений наших, поддельного государственного человека, г. Калиновича. Автор превосходных рассказов из народной и провинциальной нашей жизни покинул на время обычную почву своей деятельности, перенесся в круг высшего петербургского чиновничества, и с своим неизменным талантом воспроизведения лиц, крупных оригинальных характеров и явлений жизни попробовал кисть на сложном психическом анализе, на изображении тех искусственных, темных и противоположных элементов, из которых требованиями времени и обстоятельств вызываются люди, подобные Калиновичу…».

«Ему не было еще тридцати лет, когда он убедился, что нет человека, который понимал бы его. Несмотря на богатство, накопленное тремя трудовыми поколениями, несмотря на его просвещенный и правоверный вкус во всем, что касалось книг, переплетов, ковров, мечей, бронзы, лакированных вещей, картин, гравюр, статуй, лошадей, оранжерей, общественное мнение его страны интересовалось вопросом, почему он не ходит ежедневно в контору, как его отец…».

«Некогда жил в Индии один владелец кофейных плантаций, которому понадобилось расчистить землю в лесу для разведения кофейных деревьев. Он срубил все деревья, сжёг все поросли, но остались пни. Динамит дорог, а выжигать огнём долго. Счастливой срединой в деле корчевания является царь животных – слон. Он или вырывает пень клыками – если они есть у него, – или вытаскивает его с помощью верёвок. Поэтому плантатор стал нанимать слонов и поодиночке, и по двое, и по трое и принялся за дело…».

Григорий Петрович Данилевский (1829-1890) известен, главным образом, своими историческими романами «Мирович», «Княжна Тараканова». Но его перу принадлежит и множество очерков, описывающих быт его родной Харьковской губернии. Среди них отдельное место занимают «Четыре времени года украинской охоты», где от лица охотника-любителя рассказывается о природе, быте и народных верованиях Украины середины XIX века, о охотничьих приемах и уловках, о повадках дичи и народных суевериях. Произведение написано ярким, живым языком, и будет полезно и приятно не только любителям охоты...

Творчество Уильяма Сарояна хорошо известно в нашей стране. Его произведения не раз издавались на русском языке.В историю современной американской литературы Уильям Сароян (1908–1981) вошел как выдающийся мастер рассказа, соединивший в своей неподражаемой манере традиции А. Чехова и Шервуда Андерсона. Сароян не просто любит людей, он учит своих героев видеть за разнообразными человеческими недостатками светлое и доброе начало.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
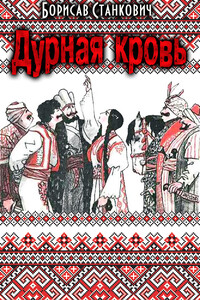
Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейший представитель критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В романе «Дурная кровь», воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, автор осуждает нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.

Романы Августа Цесарца (1893–1941) «Императорское королевство» (1925) и «Золотой юноша и его жертвы» (1928), вершинные произведем классика югославской литературы, рисуют социальную и духовную жизнь Хорватии первой четверти XX века, исследуют вопросы террора, зарождение фашистской психологии насилия.
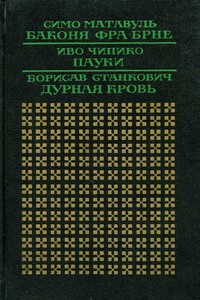
Симо Матавуль (1852—1908), Иво Чипико (1869—1923), Борисав Станкович (1875—1927) — крупнейшие представители критического реализма в сербской литературе конца XIX — начала XX в. В книгу вошли романы С. Матавуля «Баконя фра Брне», И. Чипико «Пауки» и Б. Станковича «Дурная кровь». Воссоздавая быт и нравы Далмации и провинциальной Сербии на рубеже веков, авторы осуждают нравственные устои буржуазного мира, пришедшего на смену патриархальному обществу.