Скорина - [121]
Но смотрит Скорина на траву, кусты, деревья, и все больше они кажутся ему как бы сошедшими то ли с торжественного одамашека короля Жигимонта, то ли с вышивок его матери, то ли с красочно разрисованных стен их полоцкой светелки, — стилизованными, универсализованными. Ужаснулся даже: это же рядом с ним и стилизованные, универсализованные цветы и листья из его Библии! Неживые! Дождь не оставляет на них дождинки, ночь — росинки, снег — звездочки-снежинки. Ветерок их не колышет, аромата их он не чувствует, трепетанья их, шороха не слышит. Неужто и он среди них под стать им — стилизованный, универсальный живой покойник, труп?! Оглянулся — и видит: за спиной у него — в полнеба, высоко-высоко — птолемеевская Роза, лепестки завяли, венчики в своей прозрачности окостенели. И едва ли не все его прошлое заслоняет собою Роза и тени — почему-то непроглядные — на все, что под нею, стелет. Ему страшно, жутко. Ему хочется к живым цветам — на берег Полоты, на капище возле Воловьего озера, на альпийские луга, которыми он любовался на пути в Падую.
Скорина понимает, что мыс его — приют одиночества, жилище самой вечности, обитель нетленной славы. Он, однако, не согласен оставаться на нем в одиночестве, полуживым, полумертвым. Да и слава нужна ли ему одному, если она — не с Полоцком, не с Белой Русью, не с Краковской академией и Падуанским университетом, вообще не со славянщиной, вообще не со всем божьим светом?!
И что страшней на свете — конец света или мыс одиночества, оторванность от родной почвы, от поспольства, от люда своего? Страшней конца света — оторванность, одиночество!..
В «Пасхалии» своей он все затмения солнца вычислил для поспольства вплоть до XVII столетия. Мог бы и до XX, до XXI — обычная арифметическая задачка! А жизнь его? Задача, которую решал-решал, разрешается одиночеством, унынием?! Неужто и вправду судьба его — под знаком того затмения, которого так боялась его мать? Чтоб другие матери не принимали затмения за лихие знамения, он и вычислил им в «Пасхалии» все ближайшие затмения. Предупредил. Снял у них страх с души. А вот с души его матери страха никто не снимал. Так неужто страх материнской души не отводил от него беды? Он верит: не мог не отводить. Но, по-видимому, столько бед толпится на свете белом, что сил материнской души недостало, чтобы каждую из них отвести, предотвратить.
Да и солнце не может быть против человека, против его счастья, жажды жить, творить, любить. Оно для того ведь и весну рождает, и лето в спелости холит, и богатую осень человеку дарит. И собой радует, и молодым месяцем — собой вечным и месяцем обновляющимся. Этой вечности обновления, вечности света и вечности мира нет конца-края и не будет. Но пребывать бесконечно грустным в бесконечном мире, — какая мука!.. Да если б еще одиночество выпало не за одержимость его, не за решительность, не за стремление к мудрости и жажду совершенства, не за память о матери, не за верность земле и слову, из которых он в мир вышел! Боже, прости нам грехи паши!..
И может, это его самый большой грех, что он отмалчивался в своих мыслях, когда ему досаждали чаще навязчивые. чем ненавязчивые Прекрасные цветки средневековья. Ведь именно с ними он бывал не одинок, одиноким будучи иль находясь на грани риска, еще не ставшего действием либо уже давшего свершение. Не за такое ли неодиночество он и расплачивается теперь настоящим одиночеством?..
Но разве они, Прекрасные цветки средневековья, и особенно многомудрый Фауст, и несдержанный пан Твардовский, и добродушный в своем острословии Станьчик, и истязающий себя гореванием Голем, — разве они в какой-то мере не его же собственная сущность?
Разве они — не ветви его судьбы, а может, и души, если душа есть древо, чья крона ведь — из ветвей? Возможно, что и ветви.
Но есть еще у дерева и ствол, и то, что остается после зеленого буйства листвы, — голые, мертвые сучья. Вот и он теперь такой же ствол — одинокий на мысу материка, врезающегося в лазурную даль небосклона?..
Но мертвым стволом Скорине быть не хочется. Нет! Это не его образ. Он не чувствует подле себя жухлых, палых листьев с ветвей своих. Крона его дерева — вся еще зеленая, стылыми ветрами не сорванная, даже не порыжелая. Он покамест еще — древо листвы не опавшей. И опадать листве с древа сего, конечно же, не здесь — не на градчанском холме, а отсель далече — на холмах Полотчины, Белой Руси, да и когда еще, в какие времена — далекие ли, близкие ли?..
А сейчас память Скорины никак не может расстаться с доктором Фаустом и таким теперь желанным для него Станьчиком. Это именно они, Фауст и Станьчик, были ему, как братья, или, вернее, собратья. И действительно, он и сам мог бы стать, например, Фаустом. Примись он разгадывать тайны бытия, запродав ради познания вселенной свою душу дьяволу, — и был бы Скорина уже не Скориной, а доктором Фаустом. А разве не мог бы он сделаться праздным гулякой, прожигателем жизни, как пан Твардовский, — пусть не приобрел бы лоска рыцаря-бретера, ибо не шляхтич, но слиться с уличной толпой странствующих школяров мог уже в Краковской академии, мог в поющей, танцующей Падуе, мог, начиная с кулика под Варшавой и кончая днями усердствования за печатным станком в доме бургомистра виленского Якуба Бабича, в окнах которого гудела многоголосо треугольная рыночная площадь, упирающаяся улочкой в Медницкие ворота. Разве во все вообще времена человеку не легче всего предаться именно праздности? Он мог бы запросто употребить свой талант, как Станьчик, на развлечение власть имущих. Мог бы оставаться бездеятельным и тяжелым на подъем, как Голем. Мог бы... Однако мог ли, если понял иное свое предназначение, твердо осознал его, всей душой почувствовал? Выходит, не мог — не мог умножать ни Фаустов и ни Твардовских, ни Станьчиков и ни Големов. Вот почему он — не их двойник, они — не его двойники, хотя и оказались друг с другом вместе. И то, что его отделило от них, должно было его отделить от них и неотвратимо привести на этот мыс одиночества — сюда, на Градчаны.
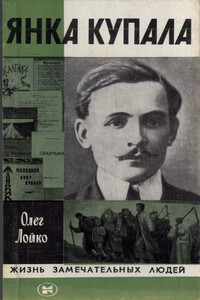
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

«…Митрополитом был поставлен тогда знаменитый Макарий, бывший дотоле архиепископом в Новгороде. Этот ученый иерарх имел влияние на вел. князя и развил в нем любознательность и книжную начитанность, которою так отличался впоследствии И. Недолго правил князь Иван Шуйский; скоро место его заняли его родственники, князья Ив. и Андрей Михайловичи и Феодор Ив. Скопин…».
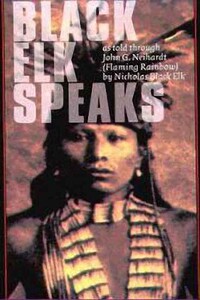
Джон Нейхардт (1881–1973) — американский поэт и писатель, автор множества книг о коренных жителях Америки — индейцах.В 1930 году Нейхардт встретился с шаманом по имени Черный Лось. Черный Лось, будучи уже почти слепым, все же согласился подробно рассказать об удивительных визионерских эпизодах, которые преобразили его жизнь.Нейхардт был белым человеком, но ему повезло: индейцы сиу-оглала приняли его в свое племя и согласились, чтобы он стал своего рода посредником, передающим видения Черного Лося другим народам.

Аннотация от автораЭто только кажется, что на работе мы одни, а дома совершенно другие. То, чем мы занимаемся целыми днями — меняет нас кардинально, и самое страшное — незаметно.Работа в «желтой» прессе — не исключение. Сначала ты привыкаешь к цинизму и пошлости, потом они начинают выгрызать душу и мозг. И сколько бы ты не оправдывал себя тем что это бизнес, и ты просто зарабатываешь деньги, — все вранье и обман. Только чтобы понять это — тоже нужны и время, и мужество.Моя книжка — об этом. Пять лет руководить самой скандальной в стране газетой было интересно, но и страшно: на моих глазах некоторые коллеги превращались в неопознанных зверушек, и даже монстров, но большинство не выдерживали — уходили.

Эта книга воссоздает образ великого патриота России, выдающегося полководца, политика и общественного деятеля Михаила Дмитриевича Скобелева. На основе многолетнего изучения документов, исторической литературы автор выстраивает свою оригинальную концепцию личности легендарного «белого генерала».Научно достоверная по информации и в то же время лишенная «ученой» сухости изложения, книга В.Масальского станет прекрасным подарком всем, кто хочет знать историю своего Отечества.

В книге рассказывается о героических боевых делах матросов, старшин и офицеров экипажей советских подводных лодок, их дерзком, решительном и искусном использовании торпедного и минного оружия против немецко-фашистских кораблей и судов на Севере, Балтийском и Черном морях в годы Великой Отечественной войны. Сборник составляют фрагменты из книг выдающихся советских подводников — командиров подводных лодок Героев Советского Союза Грешилова М. В., Иосселиани Я. К., Старикова В. Г., Травкина И. В., Фисановича И.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.
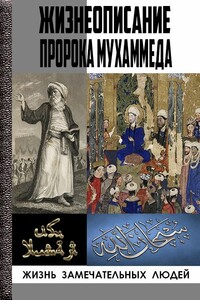
Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.
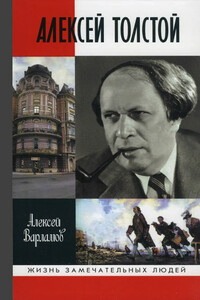
Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.