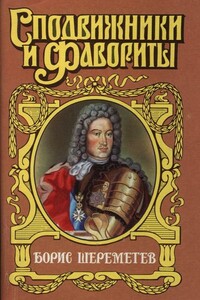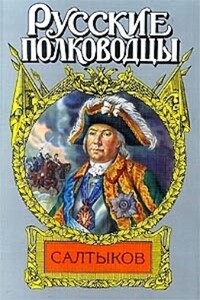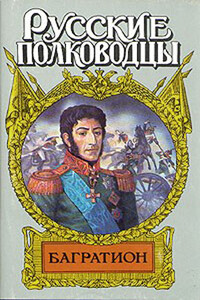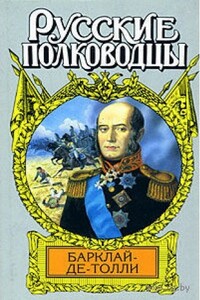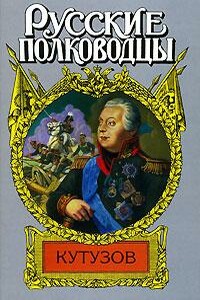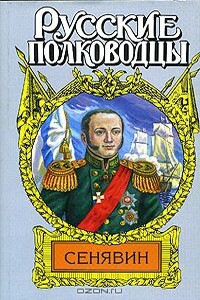— Я верю вам, Петр Федорович, но все же, как говорится, береженого Бог бережет. Сделайте, как я прошу.
— Хорошо. Будь по-вашему.
На неширокой дороге царский поезд растянулся едва ль не в три версты. Двигался он неспешно. Поэтому перед самой Москвой у Коломенского пришлось заночевать.
Туда же прибыли бояре во главе с Мстиславским, привезли Дмитрию царские одежды, только что изготовленные. Опашень столь густо был вышит золотом, что стоял коробом.
— Да на коня в нем не сесть, — пошутил Дмитрий, одев его. Шапок привезли три — маленькую тафью, усыпанную жемчугом, способную лишь прикрыть макушку, колпак, тоже изукрашенный драгоценностями с собольей оторочкой, и высокую горлатную[18] шапку из соболей.
— А где ж шапка Мономаха? — спросил Дмитрий.
— Ею, государь, будем покрывать твою главу при венчании на царство, — пояснил Мстиславский.
— А-а, понятно, — отвечал, несколько смешавшись, Дмитрий. — Надену вот эту.
Он не задумываясь выбрал горлатную шапку, своей высотой она прибавляла ему росту. Увы, царь был невысок и как все коротышки тайно страдал от этого, поэтому и обувь заказывал себе на высоком каблуке. Так что горлатная шапка была весьма, весьма кстати.
Приведен был из конюшен и верховой вороной конь под изукрашенным седлом с серебряными стременами и пышной попоной из бархата с золотыми кистями по углам. Конь должен был следовать за каретой.
В процедуру торжественного въезда царя в столицу помимо колокольного звона была включена и пальба из пушек… Но царь из пушек палить воспретил (а ну пальнут не холостым!).
— Довольно будет колоколов, а пушек мы наслушались в сражениях, — сказал он.
И именно поэтому не велел стрельцам вступать в Москву с заряженными пищалями. Чтоб ближние не догадались о его страхе, пояснил:
— Я встречаюсь со своим народом, а не с врагами.
И то верно. Не поспоришь.
20 июня 1605 года утром загудели колокола по всей Москве, народ высыпал на улицу и поскольку они были слишком узки, многие сидели по крышам и заборам. Всем хотелось видеть долгожданного природного государя «доброго царя», обещавшего столько милостей измученному народу.
Во все глаза следили москвичи за царской каретой и на все пути следования провожали радостными криками: «Здравия тебе, государь наш Дмитрий Иванович!»
Царь милостиво улыбался народу, кивал головой, помахивал ручкой, и некие, сидя на заборе, спорили:
— Видал, это он мне кивнул!
— Нет, мне.
— Нет мне, спроси у Лехи. Леха, ты заметил?
— Заметил.
— Ну кому он помахал?
— Ведомо, мне, я ж не слепой.
Некоторые от восторга плакали:
— Слава Богу-, наконец-то голубушка наш припожаловал.
— Помогай тебе Бог, боронитель ты наш.
Не слышит всего этого Дмитрий, но догадывается, что чернь искренне рада ему. Да и где тут услышать, колокольный звон уши забивает: «Бом-бом-бом, тили-тили-бом!» Самого себя не услышишь.
Польские рыцари со всех сторон кареты, со всех сторон гарцуют, чтоб, борони Бог, кто не покусился на жизнь государя. Кто слишком близко оказывается из черни к карете, на того конем наезжают: «Посторонись».
В простом народе и тени сомненья нет, что едет не настоящий царь. Он, он родимый. Не зря же вкруг кареты эвон сколько князей — Василий Голицын, Михаил Скопин-Шуйский, Дмитрий Шуйский, Борис Татев, Борис Лыков, Артемий Измайлов, Басманов, Мстиславский, всех не перечтешь. И вот он царь — солнышко наше долгожданное.
На Красной площади царя ждало все московское духовенство. Дмитрий вышел из кареты, колокола умолкли. Архиерей Арсений отслужил благодарственный молебен, благословил государя иконой. И тот поцеловал ее.
С площади он проследовал в Кремль в сопровождении всего клира и в окружении телохранителей — поляков под командой Маржерета. В это время польские музыканты, воспользовавшись тишиной, громко заиграли в трубы и литавры веселую музыку, что несколько обескуражило русских, так как государь направился в Архангельский собор поклониться могилам отца и брата.
Там, остановившись у могилы Грозного, он, скорбно склонив голову, молвил: «Спи спокойно, отец, держава вновь в наших руках». Поклонился он и могиле брата Федора Иоановича.
Посетил царь и Успенский собор, милостиво прослушав там псалмы, пропетые священнослужителями в честь такого торжественного события: «Боже, будь милостив к нам и благослови нас, освети нас лицом твоим, дабы познали на земле путь твой, во всех народах спасение твое. Да восхвалят тебя народы все. Да веселятся и радуются племена…»
Из храма царь прошел в тронный зал дворца и торжественно уселся на царский трон. И близ стоявшие услышали, как государь вздохнул с облегчением, тихо молвив: «Наконец-то!»
И все бывшие там князья и бояре поклонились ему: ты наш царь. Лишь поляки не согнули свои гордые выи[19], что с них взять — латиняне.