Сколько ты стоишь? (сборник рассказов) - [41]
Пару раз я ловила его взгляд, но делала вид, что не замечаю. А позже, уже вечером, когда ушла отдавать распоряжение насчёт ужина, поймала мальчишку, склонившегося над моим переводом.
— Что, тоже историей увлекаешься?
Он не вздрогнул — только поднял на меня серые блестящие глаза и фальшиво улыбнулся.
— Как пожелает моя госпожа.
Я выпустила ручку, и дверь с лёгким хлопком закрылась.
— Даже так? А если госпожа прикажет, — я подошла к нему почти вплотную, такому красивому в ореоле света от свечей на столе. — Прикажет тебе выбрать из этих книг, — я кивнула на шкафы, — то, что нравится именно тебе?
Он посмотрел на стеллажи. На меня, почти прижавшуюся к нему. И сказал, чуть нахмурившись:
— Простите, но я не понимаю, чего хочет моя госпожа.
Я схватила его за подбородок, заставляя смотреть только на меня. Мне так хотелось, демоны его забери!
— Осторожнее. Я не люблю повторять. И я хочу, чтобы ты выбрал книгу себе по вкусу. Раз уж ты умеешь читать. Мне не нравится, что ты сидишь и таращишься в окно, это раздражает, — тут я покривила душой, ничуть не раздражало. Но захотелось мне так сказать!
— Какую книгу я должен выбрать? — он не сделал попытки освободиться или отпрянуть.
— Которая тебе нравится, идиот, — прошипела я, начиная раздражаться.
Он моргнул — пушистые длинные ресницы бросили тень на скулы.
— Простите, госпожа. Но я не понимаю, чего вы хотите.
Да-да-да…
Я сжала его подбородок — наверняка следы от моих ногтей останутся.
— У тебя плохо с повиновением, мальчик? Я, конечно, не ваши учителя-палачи, но тоже кое-что могу. И поверь, если я сейчас рассержусь, тебе это очень, очень не понравится, — никакого отклика в глазах. Ни страха, ни желания исполнять приказ, ни презрения. Ничего.
Я грубо подтолкнула его к шкафу и прошипела на ухо:
— Когда вернусь, ты уже выберешь себе три книги. И попробуй только ослушаться!
А, идя, на кухню, рассматривала пальцы, которыми его касалась, и не могла отделаться от совершенно справедливой мысли: «Ну и зачем всё это?» У рабов нет пристрастий, нет любимых дел, нет любимых книг — это все знают. Особенно у таких вот уникальных, ценных рабов. Рабы не люди, у них нет свободы выбора. Зачем мне хочется видеть его человеком?
И отлично понимала, что когда вернусь, он будет стоять на коленях у шкафа, опустив голову, бормоча извинения. Потому что и впрямь не понимает, чего я хочу.
А всё его улыбка. Искренняя, красивая улыбка, которой мне он не улыбается! Человеческая.
Может, и хорошо, что он всего лишь раб, наложник. Человек бы меня ненавидел.
О каких глупостях, демоны меня забери, я думала!..
Когда я вернулась, Ален стоял на коленях у шкафа. Рядом с ним лежали три фолианта — что-то по этикету, что-то с куртуазными песнями, сказками и прочей чушью, и написанный когда-то мной трактат о магических когнитивных процессах.
Старясь сохранить лицо, я прошла к столу, отодвинула переводы, поставила поднос. И, не глядя, позвала:
— Давай ужинать.
А, когда он отнёс к комоду письменные принадлежности и книгу с моей работой, не выдержала и добавила:
— Ну, теперь я точно знаю, что читать на нашем языке ты умеешь.
Улыбка промелькнула почти незаметно, а, я, рассматривая его в вечернем сумраке, подумала, что он наверняка умеет ещё и петь, играть на чём-нибудь и танцевать.
Надо будет приказать. Это должно быть красиво.
Я начинала понимать, почему его брали в постель только для услужения. Ночь уже перевалила за середину — я чётко видела луну в окно сквозь щель занавесок балдахина. За середину, за полночь, а я не могла заснуть. Глаза слипались, но стоило их закрыть, тут же перед внутренним взором возникали волнующие картинки непристойного содержания. Я убеждала себя, что влечение и похоть фальшивы, как и неискренняя улыбка, что всё это действие заклинания. Я же бывшая ведьма, я же знаю, как действуют заклинания! Дело принципа, наконец — я ему не сдамся! И на самом деле я не хочу чувствовать его руки, губы у себя на груди, животе, внизу живота…
Я правда не хотела, я даже обряд вспоминала, от этого было мерзко, но заснуть не помогало.
Я возилась из стороны в сторону, твёрдо дав себе слово, что выдержу и отсылать этого инкуба не стану. Пусть лежит рядышком! Пусть я буду чувствовать его тепло. Пусть буду вспоминать вкус губ и запах — сейчас другой, не вербены — персика. Я сильная, я госпожа, и я хочу спать!
Я вконец умаялась, когда луна стала неуклонно заваливаться к горизонту, а звёзды — меркнуть. Улеглась на спину, гипнотизируя узор тускло поблёскивающих золотых линий. Вздрогнула, когда почувствовала руку поперёк моей груди, укрывшую меня покрывалом. Но прежде чем успела разозлиться как следует, услышала тихую-тихую песню — красивым, глубоким голосом на нашем языке. Колыбельную. Кормилица пела мне такую, когда я ещё жила с родителями. Что-то про кошку, мурчащую над котёнком, и ожидающих котёнка неприятностьях, от которых она, кошка, его обязательно оградит. Песня была длинной, с постоянно повторяющимся рефреном и действовала лучше бесконечных прыгающих через плетень овечек, которых полагается считать.
Я заснула очень быстро — видя над собой приподнявшегося на локтях Алена. Он улыбался, напевая.

«Никуда не денешься — влюбишься и женишься», — сказала Эрику мать, а отец ее поддержал. «А потом станешь жить с женой долго и счастливо, растить детей и занимать должность при дворе, — добавила мать. — В самом деле, ты же не собирался становиться практикующим магом?» Эрик им давно уже был, более того — готовился защищать тезисы в Академии магии, но родителей это не волновало. «Не хочу жениться, хочу учиться!» — подумал Эрик и решил привести в дом такую невесту, чтобы у матери в глазах потемнело. И вот что из этого вышло…

Продам кота с отличной родословной – настоящего принца. Не шучу. Рыжий, презрительный, любит пиво и играть на нервах. Бонусом прилагаются приключения в другом мире, откуда кот родом. Вы еще сомневаетесь? Тогда я открою тайну. Этот кот – два в одном: и принц, и маг. Правда, иногда он такое наколдует, что за ним бегают и хотят убить все тамошние «коллеги» – короли-колдуны… Но это мелочи.Причина продажи: не сошлись характерами. Достал, мягко выражаясь. Продаю за символическую плату. Неужели вам такой королевский кот не нужен?

Поцелуй принца снимет заклятие с заколдованной девы? Прекрасно, когда ты красавица днем, а чудовище ночью. Но если наоборот? И где тогда найти принца, который полюбит тебя даже чудовищем? Виола и не ищет — в благородных принцев она давно не верит. И так бы и жила себе тихо-спокойно, если бы не сестра-принцесса из другого мира, которой ну очень не хочется замуж. И почему бы не совместить приятное с полезным: если подсунуть жениху Виолу-чудовище, он сам от свадьбы откажется, правильно? Виола тоже так думала, но принц попался настырный.

Нелегко любить принца. Вся страна считает тебя ведьмой, приворотившей наследника, король хочет от тебя избавиться, отец его отвергнутой невесты объявляет войну, а сам принц, не интересуясь твоим мнением, запирает тебя в башне. И ты одна в чужом мире, где тебя никто не ждёт.

3-я книга. Довела парня до белого каления, и он стал Тёмным Властелином? Угрожает убить тебя, твою мать и зверски расправиться с остальными силами добра? Не отчаивайся! Если тебе на помощь приходит демон, и ты веришь в Настоящую Чистую Любовь — всё возможно. Даже вернуть Властелину его сердце.

Говорят, какой-то чудак однажды освободил джинна. Для Амани – птицы-удачи – это не более чем сказка. «Слушаюсь и повинуюсь» – все, что хотят услышать люди. Амани исполняет их желания – сколько угодно и без ограничений. И пусть сама она могущественней любого джинна, свобода для нее – несбыточная мечта. Какой глупец откажется от удачи? И даже встретив такого глупца – мечтателя и неудачника Амина, – она не верит ни в его доброту, ни в бескорыстие и уж тем более в любовь. Но пряха-судьба уже сплела их нити, и птице-удаче еще предстоит понять, что настоящая любовь дарит не оковы, а крылья.

Жизнь лунатика становится нестерпимой, когда многие вспоминают про флаг, который некогда первый человек привёз на Луну. И Петька тут не поможет.

Созерцательная фантастика о первопроходцах и соединителях Космоса. Короткий рассказ о человеке, умеющем летать, как чайка Джонатан Ливингстон. И попытка ответа на вопрос о том, как увидеть то, что у всех на виду.

Орбитальные лифты, грузовые челноки и прииски Гелия-3. Трудные, смешные и грустные эпизоды в амбициозной и высокотехнологической гонке за будущим. Конкуренты НАСА и Китайского космического агентства. Интервью с современниками и очевидцами событий. Репортаж от первого лица. Воспоминания непосредственных участников.

Как связан унылый, да еще подвальный офис на месте бывшего ресторана "Космос" с трансгалактическим лайнером? И почему замотавшийся и, честно говоря, довольно бесхребетный Начальник иногда ощущает себя Капитаном? Возможно, мы не все знаем не только о себе самих, но и о своей работе…

Рассмотрение пустынь вселенной "Звёздные Войны" и связанных с ними сюжетов, в качестве отсылок к мотиву Библейских событий в Иудейской, Иорданской и Синайской пустынях.
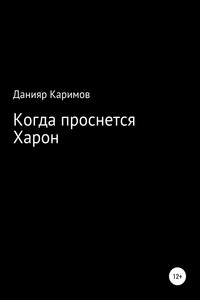
Коммерческий транспорт "Олимп" выходит из прыжка в системе бозонной звезды. Людям предстоит колонизировать новую планету. Помочь в этом призван Харон, готовый принести себя в жертву и превратиться в одно из составляющих экзотической системы.