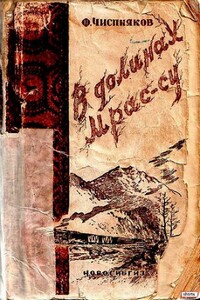— Нет, Санмай, — возразил Ак-Мет. — Ты не видел, как горели его глаза, как тяжело поднималась грудь, когда он слушал твой рассказ. Мне казалось, что вот-вот он загорится весь и запылает как костер.
— У него только крылья огненные, а сердце ледяное. Он может полететь, но утопающего не заметит, не спустится его спасать.
— Так думаешь?
— Так думаю.
— Ошибаешься, Санмай. Он спасет утопающего, но скажет: «Зачем полез в трясину? Надо было обойти».
Санмай помолчал, подумал, но не согласился.
— Не понимаю, как не жалеть человека, умершего мучительной смертью. Я всех жалею: и сына, и брата, и чужого человека. Мне все одинаковы. А ему, видно, нет. Скажи по совести, Ак-мет: если бы Чулеш ему был хоть дядей, говорил бы он так? Небось, сердце заболело бы.
— А ты знаешь этого человека, Санмай? — спросил Ак-мет.
— Первый раз вижу.
— Так знай: этот шорец-шахтер и есть тот мальчик, который бежал от садыгчи, чтобы рассказать русским братьям правду об отце. Он — сын Чулеша.
Лицо Санмая словно окаменело. Он не нашел слова, чтобы ответить другу. Молчал и Ак-Мет. Молчали горы кругом, молчала далекая Кондома. Только взрывы динамита, да гудки паровозов изредка нарушали глубокую таежную тишину.
— Видно, не понимаю я теперешних людей, — сказал, наконец, Санмай после долгого раздумья. Словно на высокой скале они стоят, и мои думы не поднимаются до них.
Ак-Мет улыбнулся.
— По-моему, начинают подниматься...