Шествовать. Прихватить рог… - [62]
Я довольна, блеснув перед ним вызывающим низложением и крутой катахрезой, надо показать наставлявшему, что увенчан в поучениях. Но не блещут ли — в полумертвых руинах, ведь со сменой ушей и мест половина соли просеялась, а разве успеет помнить мои удалые мотто — так долго, как заслужили, и цитировать многим?
Возвращаясь из путешествий, я боюсь ему позвонить. В мое отсутствие он мог наконец уехать, и просьба подозвать его к телефону примнится осиротевшим — бесстыдной. По той же причине я не смею черкнуть ему с пути письмецо. Он отрешен от токующих в паутине мировых приветов — только улики: бумага, буквы… ясно, надушены. Но вдруг его уже нет, и мои посвящения прочтут — его близкие? Меня не привлекают эти чтецы. Мне они не близки!
Однажды близ меня стояли мадам Четвертая Молодость, и ее голубые кусты по имени Девять Десятков Ягод, и ее тети кошелки, дяди сундуки и воспитанницы — тумбы четырех ног. Старая перепелица о всем поговаривала с неукротимым пафосом: я написала двадцать свидетельствующих дневников… Можете называть их — наши дети… Наши завоевания и резервы, наша величавая поступь!.. Кажется, она не догадывалась утешить конфеткой — сунувших голову в ее дом. Зато сохранила девичьи привычки: из фантиков удивительных конфет, которыми никого никогда не угощала, она целую жизнь вырезала маникюрными ножничками снежинки, и бросала в конверт, и кому-нибудь отправляла, не обязательно к Новому году, а то и к Международному дню трудящихся, поскольку любила дары волхвов. А после по адресам звонил не то ее муж, не то кузен и подробно объяснял, как поступить с этим чудом. Скорей сбегать за скотчем и прозрачнейшими, микроскопическими полосками приклеить снежинку на окно…
Но кто муж подскажет, в каком городе я живу — в многодневном, неразрывном и прибывающем, чьим дням служат проводниками дубы и кедры, и лавры и оливы, где цветут миндаль и мускатник, орел и голубь, и сестры — гиена и лань? Или — уже в разомкнутом, набран из подтасованных фактов, подлогов, подчищенных документов, где неровный край прерванного пейзажа наспех присыпан золотой пылью, и едва протяну к собеседнику руку — тут же взвоет сирена? Тот и этот двусмысленны, нестойки, взрывоопасны, и часы и календари — звезды с переменным сиянием и опровергают друг друга, заставляя томиться — всем, что встретишь! Грузные кусты, стриженные в купол, в митинг глобусов, так экстатичны — потому, что мой наставник, укрывшись за семью кругами города, как раз сейчас отъезжает — или сгрудились играть в пушбол? Привставший на коготки щиток, штендер у ресторанного входа предлагает банкет и яства-грезы — по случаю отъезда наставника, или — в честь того, что он передумал и остается? Кто поверит, что к шахматному турниру?! А собственноручная приписка шеф-повара: Тема шашлыка — бесконечна, неисчерпаема..? А нацарапанная шеф-ножом добавка: Как и блюда из фрагментов фарша..? Заслонившие рельсы ограждения, нарезки, фрагменты непереходимой черты знаменуют ремонт пути — или то, что этой дорогой проехал господин прощания и отныне она священна? Кем-то забытый, уже ничей синий мяч катится по аллее — сам собой, преисполнен внутренней силы? Или катит — потому, что стогны уже накренили? Но сомнительным лучше с кем-нибудь поделиться — с сапером, с цензором…
Я жажду свалить с захиревших дружб — прослоившие их призраки стародавнего поезда с липкой клеенкой переборок, с неповоротливыми от пыли занавесками на исполненных в саже ландшафтах, с лязгом и хрустом изнуренных скобок и с закуренным тамбуром, отрыгающим — ледяную хлорку зимы и барачную корпию чада. Соскрести нежизнеспособное — и укладывать улицы в серпантин на вчерашние оттиски, пусть восходят все выше — и из каждого окна выкрикивают благие вести. Но если забыть, что любая встреча готова срастись с финалом, с финитой, не прорвется ли в моей речи — незначительное, шушерное, или кичливость, лукавства? Разразись такое, ментор обязан жениться, по крайней мере, не смеет уехать, не предоставив мне новое рандеву, дабы выправиться — и, захлебываясь прощанием, проговорить — не сказанное в прошлом, и заодно — проглоченное в будущем! Но, увы, предотъездные хлопоты тоже не поощряют его всюду носить с собой обещанный мне апофеоз.
Можно объясниться на чужом языке, но, пожалуй — не до испарины, не до схватки, и раз никто не желает помнить, подмасливать — и не обмериться с собственным размахом, почему бы не столковаться — прямо? А если наш цивилькураж вызывает у вас сердечные боли, да послужат очищению и классической простоте!
Я репетирую такой разговор.
— В конце концов, всем известно, что вы вот-вот уедете, и мне, по-моему, не совсем прилично ни о чем не подозревать. Вы могли бы избавить меня от истовой невинности?
Мы сошлись на колеблющемся от зноя перекрестке августа, расслоившем горячей струей — даже слитное, отрешившем экседру от твердыни, и превращена — в неохватное древо с круговой скамьей, на которой украшены солнцем, негой и сплетением рук — люди лета.
Конфидент безмятежен. Наст на скулах его тоже плавит солнце.
— Так объявим наши неудобства — недоказанными или несостоятельными…
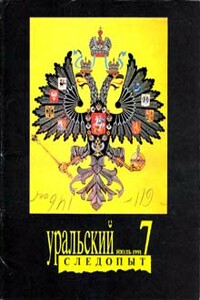
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Юлия Кокошко – писатель, автор книг “В садах” (1995), “Приближение к ненаписанному” (2000), “Совершенные лжесвидетельства” (2003), “Шествовать. Прихватить рог” (2008). Печаталась в журналах “Знамя”, “НЛО”, “Урал”, “Уральская новь” и других. Лауреат премии им. Андрея Белого и премии им. Павла Бажова.

В новую книгу Юлии Кокошко, лауреата литературных премий Андрея Белого и Павла Бажова, вошли тексты недавних лет. Это проза, в определенном смысле тяготеющая к поэзии.

Две женщины — наша современница студентка и советская поэтесса, их судьбы пересекаются, скрещиваться и в них, как в зеркале отражается эпоха…

Жизнь в театре и после него — в заметках, притчах и стихах. С юмором и без оного, с лирикой и почти физикой, но без всякого сожаления!

От автора… В русской литературе уже были «Записки юного врача» и «Записки врача». Это – «Записки поюзанного врача», сумевшего пережить стадии карьеры «Ничего не знаю, ничего не умею» и «Все знаю, все умею» и дожившего-таки до стадии «Что-то знаю, что-то умею и что?»…

У Славика из пригородного лесхоза появляется щенок-найдёныш. Подросток всей душой отдаётся воспитанию Жульки, не подозревая, что в её жилах течёт кровь древнейших боевых псов. Беда, в которую попадает Славик, показывает, что Жулька унаследовала лучшие гены предков: рискуя жизнью, собака беззаветно бросается на защиту друга. Но будет ли Славик с прежней любовью относиться к своей спасительнице, видя, что после страшного боя Жулька стала инвалидом?

В России быть геем — уже само по себе приговор. Быть подростком-геем — значит стать объектом жесткой травли и, возможно, даже подвергнуть себя реальной опасности. А потому ты вынужден жить в постоянном страхе, прекрасно осознавая, что тебя ждет в случае разоблачения. Однако для каждого такого подростка рано или поздно наступает время, когда ему приходится быть смелым, чтобы отстоять свое право на существование…

История подростка Ромы, который ходит в обычную школу, живет, кажется, обычной жизнью: прогуливает уроки, забирает младшую сестренку из детского сада, влюбляется в новенькую одноклассницу… Однако у Ромы есть свои большие секреты, о которых никто не должен знать.
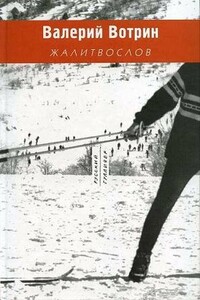
Абсурд, притчевость, игра в историю, слова и стили — проза Валерия Вотрина, сновидческая и многослойная, сплавляет эти качества в то, что сам автор назвал «сомнамбулическим реализмом». Сюжеты Вотрина вечны — и неожиданны, тексты метафоричны до прозрачности — и намеренно затемнены. Реальность становится вневременьем, из мифа вырастает парабола. Эта книга — первое полное собрание текстов Валерия Вотрина.