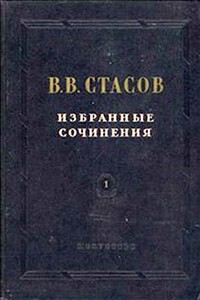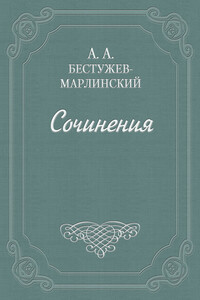Щербина - [2]
Кроме того, Щербина и вообще древним греком не мог остаться до конца. Как и Майков, он не выдержал язычества, не пошел беззаветно навстречу радости, не отдался в полную власть упоенной плоти, – он захотел оправдаться в своем наслаждении, приписать ему более идейный и степенный характер. Он как бы спохватился, вспомнил, что он не язычник, а христианин, и вот кипящее вино страсти, «искрометную кровь винограда», поэт разбавляет водой спокойствия, умеренности и на самое почетное место своего пантеона сажает уже не Афродиту, а Софрозину, скромную богиню благоразумия.
он хочет наслаждаться… «беседою мудрой». Если бы читатель подумал, что мудрое здесь явилось случайно, только в качестве удобной рифмы к русокудрое, то его разубедили бы в этом другие места из стихотворений Щербины. Например, он просит любимую женщину «сытныя снеди принесть и весельем кипящие вина, и ароматы, и мудрого мужа Платона творенья». Сытные снеди умеряются творениями Платона… Затем еще говорит он, что для него «мелодия духа разлита многозвучно в телесных чертах», и восклицает:
И вообще, если он в восторге «от белизны легкопенной скульптурного тела», если эти женские чары неотразимо влекут его к себе, то все же он не хочет отрешаться и от покровительства богини Софрозины с ее чувством умеренности и меры:
Больное и безумное, конечно, были чужды язычнику, и он действительно соблюдал золотую меру в культе красоты, – но язычник бы сам об этом не говорил так настойчиво, не ставил бы себе в заслугу своего благоразумия, тем более что и оно не было для него чуждым, внешним велением и сдержкой, а грациозно и естественно, незаметно для его мощи, невидимо для его сознания, вырастало из самых недр его природы.
Он часто воспевает любовь, Щербина, но берет у нее только то, что в ней светло, легко, чувственно. Трагизму любви, тому, чем она близка к смерти, хотя и сильнее ее, он посвящает мало внимания. В этой области серьезного отметим одно его тихое, грустное стихотворение – «Земля».
Для того чтобы не возникла эта сердечная драма, для того чтобы сердца не пришлось лечить могилой, лучше пусть девушка останется Миньоной, пусть длится ее утро и дольше не настанет ее полдень:
Красота – не только в женщине, но и в искусстве. Великая традиция Фидия и Апеллеса живет в мире, который не довольствуется красотою одной природы, но и воспроизводит ее в человеческом вдохновенном творчестве. При этом, однако, отношение Щербины к искусству – какое-то двойственное, и это, может быть, связано с тем, что он вообще не имеет цельного мировоззрения и в поэзии его отсутствует даже какая-нибудь глубокая и оттого примечательная односторонность. Именно он ставит искусство, т. е. в известном смысле цитату, нечто вторичное и воспроизведенное, так высоко, что перед ним бледнеет непосредственная красота мира. Весна, покидая землю, оставляет свои краски поэту, и она уверена, что благодаря ему люди даже и не заметят ее отсутствия. Изменят женщины, поблекнут их цветущие лица, все разрушится, все обманет, —
Но с другой стороны, Щербина исповедует более скептическую мысль, что «искусство, уж это – несчастие наше, о дети!». Искусство возникает уже тогда, когда в человеке зарождаются «потребы бесконечного духа», неудовлетворенные и неудовлетворимые стремления. Искусство – порыв к идеалу, и оно лишь оттеняет всю печаль и бедность реального. Оно – результат лишений; это – бедность и горе, слабый отзвук потерянного рая. Какая грусть и скудость в поэзии! И потому девочки, которые просят почитать им стихи, на самом деле в последних не нуждаются: они сами – воплощенные поэтические создания, живое созвучие.
Служитель искусства, поэт, наместник весны, имеет еще и другую – социальную важность, хотя сам Щербина уклоняется от песен, чуждых вечности:
Но и здесь он не остается последовательным, верным себе: осуждая русскую «безобщественность», он считает поэта совестью века, называет его «человеком передовым» и благословляет его на высокие подвиги духа:

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
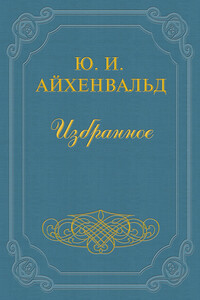
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
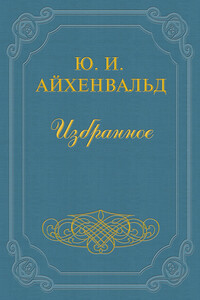
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.
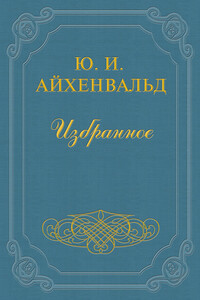
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».

- видный русский революционер, большевик с 1910 г., активный участник гражданской войны, государственный деятель, дипломат, публицист и писатель. Внебрачный сын священника Ф. Петрова (официальная фамилия Ильин — фамилия матери). После гражданской войны на дипломатической работе: посол (полпред) СССР в Афганистане, Эстонии, Дании, Болгарии. В 1938 г. порвал со сталинским режимом. Умер в Ницце.

«Охлаждение русских читателей к г. Тургеневу ни для кого не составляет тайны, и меньше всех – для самого г. Тургенева. Охладела не какая-нибудь литературная партия, не какой-нибудь определенный разряд людей – охлаждение всеобщее. Надо правду сказать, что тут действительно замешалось одно недоразумение, пожалуй, даже пустячное, которое нельзя, однако, устранить ни грациозным жестом, ни приятной улыбкой, потому что лежит оно, может быть, больше в самом г. Тургеневе, чем в читателях…».
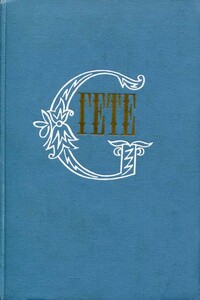
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.