Щербина - [3]
Вообще, несмотря на указанное желание откликаться только на вечные темы, Щербине не чужды ни сатирические выходки против людей и нравов, ни более серьезные гражданские мотивы, и в потаенных складках его стихов, искаженное цензурой, все-таки живет презрение к злой традиции, к жизни беззаконной, к неправедной современности. Он помнит Рылеева и тот равелин,
То, что узника сжимают черные стены темницы, а за этими стенами ликует природа и поют малиновки; то, что узнику небо, и горы, и пашни виднеются из тюремного оконца, – это представляет собою не только насилие над человеком, но и оскорбление природы во всем ее целом; ибо самая сущность ее – свобода, и если не свободно хотя бы малейшее ее создание, то это уже вопиет к небу, вопиет к ней – тем более когда свободу отнимают у ее лучшего творения, у ее любимого сына. Именно потому, что кругом – рабство и тьма, одного солнца мало Щербине; он хочет зажечь другое, и это другое солнце будет свобода. Когда-нибудь «два солнца засветят с небес» – это будет победа Прометея над Зевсом, человека над Богом.
Такую победу поэт считает необходимой: надо довершить дело Прометея. Личного Бога Щербина не признает. Но это не столько атеизм, сколько пантеизм, который и составляет пафос его поэзии. Как характерно выражается наш эллин, он чувствует «сострастье» ко всей природе и узнает себя в ней и ее в себе: «тайные струны природы в струнах души отзовутся». Мир для него – одно существо, и есть мировая душа, как единство отдельных дыханий. Все кругом трепещет и чувствует, и жизнь – великое Одно. И потому, когда поэт, слыша в себе и кругом себя «звучащий рой всеструнных ощущений», бродит по лесу, он, как носитель вечности, как воплощенное бессмертие и кладезь жизни, чует вокруг себя не только все теперь живущие твари земной планеты, но и все отжившие; для него раскрываются вселенские тайны, и тогда он сознает, что на земле обитает не одно видимое население, но и то, чего он не видит, не слышит, не осязает и что воспринимает «смутным души ощущением». И поэтому он с «жадным сострастьем родственно внемлет мелодии листьев»; и утром, когда мир так свеж, он идет по горам и долинам и чувствует себя частью целого, единой каплей в океане живого. И он боится, как бы своей стопой не раздавить чужой жизни:
В мировом океане живого не все, однако, живет одновременно, и там, где такой избыток жизни, роскошествует и смерть. Вот кузнечики завидуют долговечности сосен и елей, которые никогда, никогда не скидают своей зеленой одежды; соловей славит жизнь, но для него она мимолетна: он с розой рождается и с быстро вянущей розой умирает, и он завидует людям, которые могут в течение своего века прослушать многие песни многих соловьев; но и человек жалуется, что седеют его волосы и замирает его сердце, когда-то полное трепета и страсти. Все умирает; только бессмертно самое вместилище жизни, только не иссякает самый источник ее – неугасимое солнце; не знает кончины мир как целое, мир, во веки веков исполненный «страстных, вакхических стремлений» и никогда их не утоляющий:
Оттого и обидно умирать, так горько не быть – «горе не жившим и горе отжившим!». И с ужасом чувствует каждое я свое одиночество и быстротечность.
В самом деле: есть в мире полноводный родник живой воды, есть в мире бесконечная возможность жизни – и тем не менее каждое индивидуальное существо обречено умереть. Какая трагедия, какая насмешка! Отдавать последнее трепетание своего тела, когда кругом трепещет любовь; задыхаться, когда около меня все дышит, когда окрест меня в беспредельных пространствах такое буйство жизни! Умирать при звуках мирового дифирамба, под ликование опьяненного и опьяняющего космического Вакха; уходить, когда все приходит, когда ласкает весна, с юга лазурного веет зноем и легкой прохладой, и глазами, темнеющими от наклонившейся смерти, видеть, как земля, одетая в зеленое, пирует свой брачный пир и не замечает наших похорон или отпускает нас без жалости и с насмешкой, – таков удел всего отдельного. «Много есть жизни в природе», и отдельное мечтает, говорит: «Жизнь я займу у природы»; но природа, такая богатая, такая неисчерпаемо-изобильная, не дает взаймы больше того, что она отмерила, и не делится с нами избытком своей жизни.
Именно оттого в душе человека, в душе поэта, и воцаряется в конце концов мертвенная тишина.

«Когда-то на смуглом лице юноши Лермонтова Тургенев прочел «зловещее и трагическое, сумрачную и недобрую силу, задумчивую презрительность и страсть». С таким выражением лица поэт и отошел в вечность; другого облика он и не запечатлел в памяти современников и потомства. Между тем внутреннее движение его творчества показывает, что, если бы ему не суждено было умереть так рано, его молодые черты, наверное, стали бы мягче и в них отразились бы тишина и благоволение просветленной души. Ведь перед нами – только драгоценный человеческий осколок, незаконченная жизнь и незаконченная поэзия, какая-то блестящая, но безжалостно укороченная и надорванная психическая нить.

«В представлении русского читателя имена Фета, Майкова и Полонского обыкновенно сливаются в одну поэтическую триаду. И сами участники ее сознавали свое внутреннее родство…».
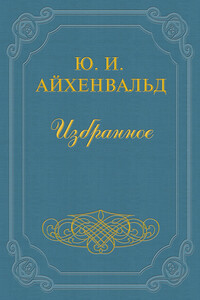
«На горизонте русской литературы тихо горит чистая звезда Бориса Зайцева. У нее есть свой особый, с другими не сливающийся свет, и от нее идет много благородных утешений. Зайцев нежен и хрупок, но в то же время не сходит с реалистической почвы, ни о чем не стесняется говорить, все называет по имени; он часто приникает к земле, к низменности, – однако сам остается не запятнан, как солнечный луч…».
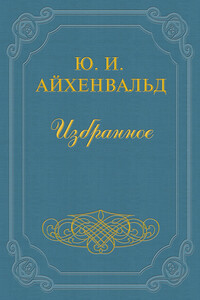
«Сам Щедрин не завещал себя новым поколениям. Он так об этом говорит: „писания мои до такой степени проникнуты современностью, так плотно прилаживаются к ней, что ежели и можно думать, что они будут иметь какую-нибудь ценность в будущем, то именно и единственно как иллюстрация этой современности“…».

«Наиболее поразительной и печальной особенностью Горького является то, что он, этот проповедник свободы и природы, этот – в качестве рассказчика – высокомерный отрицатель культуры, сам, однако, в творчестве своем далеко уклоняется от живой непосредственности, наивной силы и красоты. Ни у кого из писателей так не душно, как у этого любителя воздуха. Ни у кого из писателей так не тесно, как у этого изобразителя просторов и ширей. Дыхание Волги, которое должно бы слышаться на его страницах и освежать их вольной мощью своею, на самом деле заглушено тем резонерством и умышленностью, которые на первых же шагах извратили его перо, посулившее было свежесть и безыскусственность описаний.
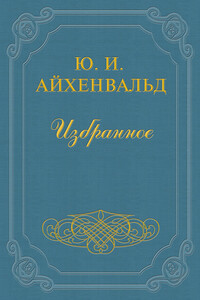
«„Слепой музыкант“ русской литературы, Козлов стал поэтом, когда перед ним, говоря словами Пушкина, „во мгле сокрылся мир земной“. Прикованный к месту и в вечной тьме, он силой духа подавил в себе отчаяние, и то, что в предыдущие годы таилось у него под слоем житейских забот, поэзия потенциальная, теперь осязательно вспыхнуло в его темноте и засветилось как приветливый, тихий, не очень яркий огонек…».

- видный русский революционер, большевик с 1910 г., активный участник гражданской войны, государственный деятель, дипломат, публицист и писатель. Внебрачный сын священника Ф. Петрова (официальная фамилия Ильин — фамилия матери). После гражданской войны на дипломатической работе: посол (полпред) СССР в Афганистане, Эстонии, Дании, Болгарии. В 1938 г. порвал со сталинским режимом. Умер в Ницце.

«Охлаждение русских читателей к г. Тургеневу ни для кого не составляет тайны, и меньше всех – для самого г. Тургенева. Охладела не какая-нибудь литературная партия, не какой-нибудь определенный разряд людей – охлаждение всеобщее. Надо правду сказать, что тут действительно замешалось одно недоразумение, пожалуй, даже пустячное, которое нельзя, однако, устранить ни грациозным жестом, ни приятной улыбкой, потому что лежит оно, может быть, больше в самом г. Тургеневе, чем в читателях…».
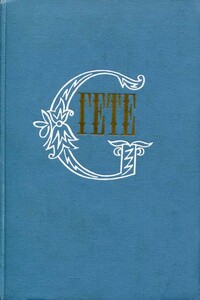
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


