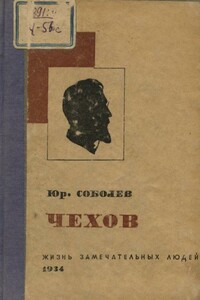Щепкин - [4]
Молодые гвардейцы чувствовали себя политической силой. Историк В. О. Ключевский говорил, что когда «отсутствует или бездействует закон, политический вопрос обыкновенно решается господствущей силой. В XVIII веке у нас такой решающей силой является гвардия, привилегированная часть созданной Петром регулярной армии». Гвардейских полков в моху Екатерины Второй было четыре — Преображенский, Семеновский, Измайловский и Конногвардейский. И вот — свидетельствует историк — «почти ни одна смена на русском престоле не обошлась без участия гвардии, можно сказать, что гвардия делала правительства и уже при Екатерине Первой заслужила у иностранных послов кличку «янычар». С участием гвардии за тридцать семь лет произошло шесть дворцовых переворотов. Гвардия вмешивалась в политику, дворцовые перевороты стали для нее, по выражению В. О. Ключевского, «приготовительной политической школой». Гвардия имела огромное общественное значение, была представительницей целого сословия — дворянства.
Сама Екатерина Вторая была обязана гвардии тем, что стала самодержицей всероссийской. Переворот 28 июня 1762 года, свергший с престола Петра Третьего, был «самой веселой и деликатной из всех нам известных революций, не стоившей ни одной капли крови, настоящей дамской революцией. Но она стоила очень много вина: в день въезда Екатерины в столицу 30 июня войскам были открыты все питейные заведения, солдаты и солдатки в бешеном восторге тащили и сливали в ушаты, боченки — во что ни попало — водку, пиво, мед, шампанское. Три года спустя в сенате еще производилось дело петербургских виноторговцев о вознаграждении их за растащенные при благополучном ее величества на императорский престол восшествии виноградные напитки солдатством и другими людьми на 243 131 рубль с копейками» (см. В. О. Ключевский — Курс русской истории, часть 4, стр. 455, изд. 1918 г.).
Весело, буйно и пьяно чувствовала себя гвардия в первые годы царствования Екатерины. Весело жил и молодой граф Волькенштейн. Не скучно проводил время в Петербурге и его расторопный камердинер Семен Щепкин.
До тонкости изучил он весь обиход этого уклада, в котором так щедро лилось вино, так азартно проигрывались в карты целые состояния и где слухи о дворцовых интригах и нескромных приключениях самой императрицы с ее фаворитами сплетались с веселыми рассказами о похождениях с дворцовыми актрисами.
К шумным толкам господ жадно прислушивался Семен Щепкин. Нужды нет, что говорили офицеры на французском языке — слуги на практике своей службы невольно изучали французский. Во всяком случае, много слов — из самого ходового, так сказать, бытового лексикона языка — они усвоили твердо. Нет, Семен Щепкин, вывезенный из курской глуши, не потерялся в Петербурге. Он вошел во вкус тех удовольствии, среди которых протекали гвардейские дни его барина. А в эти дни все знатные люди были театралами: театру покровительствовала сама императрица и не только в качестве неизменной зрительницы и драматической писательницы, но и законодательницы, давшей юридические основы учрежденному еще при Елизавете Петровне императорскому театру.
Императорский театр той эпохи был еще неразрывно связан с именем Федора Волкова. Федор Волков в эту глухую пору русской истории, когда всякое культурное начинание было редким и счастливым исключением на общем сумеречном фоне, все еще овеянном почти азиатской дикостью, побудил своих земляков — ярославцев помочь ему в его чудаческой затее, создать театр в родном городе. Федор Волков был пасынком богатого — купца Подушкина. По приказу отчима живал он в Петербурге для усовершенствования в познаниях торгового дела. Впрочем, его биография полна легенд и противоречий. Кажется, учился он в Заиконоспасской академии и, может быть здесь, а может быть, уже в Ярославле, состоя при отчиме — владельце селитренных и серных заводов, — «упражнялся» в театральных представлениях с некоторыми приказными служителями.
Федора Волкова называют основателем русского театра. Это не точно и неверно: Волков продолжил то дело русского театра, которое истоками своими имеет еще более грубое время, атмосферу еще большей дикости. XVIII век — дни «веселой Елизаветы», императрицы Елизаветы Петровны — был веком переломной эпохи, стоявшей на рубеже европейской культуры, насильственно насаждаемой дубинкой Петра. Это был век, уже познавший все соблазны придворных балов, роскошных маскарадов и прекрасных итальянских спектаклей. Ростки же русского театра надо искать на другой почве, в Москве, в дни «тишайшего» царя Алексея Михайловича. Тогда, под злые крики немецкого пастора Иоганна Грегори, капризом истории ставшего первым русским режиссером, дети приказных, малограмотные парни, призванные царским указом «учинить комедию», начинали трудный путь русского театра. Мы мало знаем о них, об этих первых лицедеях. Первые русские актеры, допущенные к целованию руки великого «царя и государя», оставили память о себе в челобитных, в которых жалуются, что «платьишком они износились, животишками извелись», что, забытые, не получают никакого денежного пособия и голодают. Эта челобитная — первый документ о первых русских актерах. И в этом первом актерском документе как бы предуказывается тот тернистый путь, по которому в мытарствах пройдут свою вековую историю русские актеры. И другой документ, запечатлевший штрих не менее яркий для истории быта и нравов родного театра: жалоба на актера Шмагу— пьяницу, драчуна и буяна, которого за лихие дела, дабы впредь не повадно было, больно наказали батогами. Так из этой темной и глухой поры тянутся тонкие нити, связывающие младенчески наивный театр с тем культурным делом приобщения к европейской образованности, которое стало вершиться с той поры. И кто только ни отдавал своих влечений и жаркой своей любви трудному этому театральному делу: были тут и ученики духовной Заиконоспасской академии в Москве, на Никольской, той самой академии, в которую пришел вместе с рыбным обозом из далеких Холмогор Михайло Ломоносов, были тут студенты медицинской академии, которых называли «государственными младенцами», были и приказные, и обедневшие дворяне, купеческие сыновья и отставные чиновники, — та разночинная русская городская масса, которая, не избавленная от телесного наказания (только дворянская спина не знала батогов, плетей, кнута и розог), голодная и битая, неудержимо стремилась к просвещению. Театральные огни казались ей самыми яркими на звездном небе европейской культуры. И Федор Волков, до которого доходил свет из прорубленного петровским топором окошка в Еаропу, — был таким же наивным и страстным работником театральной культуры, как до него были все эти люди, правдами и неправдами создавшие в России театр.
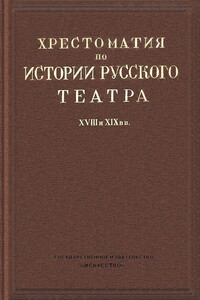
«„Хрестоматия по истории русского театра XVIII и XIX веков“ представляет собой то первичное учебное пособие, к которому, несомненно, прибегнет любой читатель, будь то учащийся театральной школы или же актер, желающий заняться изучением истории своего искусства.Основное назначение хрестоматии — дать материал, который выходит за рамки общих учебников по истории русского театра. Следовательно, эту книгу надо рассматривать как дополнение к учебнику, поэтому в ней нет обычных комментариев и примечаний.Хрестоматия с интересом будет прочитана и широкими кругами читателей.
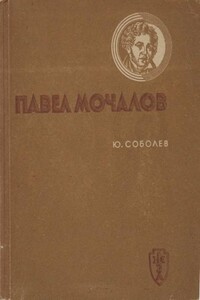
В настоящем издании представлен биографический роман о П.С.Мочалове (1800-1848), российском актере, крупнейшем представителе романтизма в русском театре.

Русский серебряный век, славный век расцвета искусств, глоток свободы накануне удушья… А какие тогда были женщины! Красота, одаренность, дерзость, непредсказуемость! Их вы встретите на страницах этой книги — Людмилу Вилькину и Нину Покровскую, Надежду Львову и Аделину Адалис, Зинаиду Гиппиус и Черубину де Габриак, Марину Цветаеву и Анну Ахматову, Софью Волконскую и Ларису Рейснер. Инессу Арманд и Майю Кудашеву-Роллан, Саломею Андронникову и Марию Андрееву, Лилю Брик, Ариадну Скрябину, Марию Скобцеву… Они были творцы и музы и героини…Что за характеры! Среди эпитетов в их описаниях и в их самоопределениях то и дело мелькает одно нежданное слово — стальные.

Эта книга – результат долгого, трудоемкого, но захватывающего исследования самых ярких, известных и красивых любовей XX века. Чрезвычайно сложно было выбрать «победителей», так что данное издание наиболее субъективная книга из серии-бестселлера «Кумиры. Истории Великой Любви». Никого из них не ждали серые будни, быт, мещанские мелкие ссоры и приевшийся брак. Но всего остального было чересчур: страсть, ревность, измены, самоубийства, признания… XX век начался и закончился очень трагично, как и его самые лучшие истории любви.

«В Тургеневе прежде всего хотелось схватить своеобразные черты писательской души. Он был едва ли не единственным русским человеком, в котором вы (особенно если вы сами писатель) видели всегда художника-европейца, живущего известными идеалами мыслителя и наблюдателя, а не русского, находящегося на службе, или занятого делами, или же занятого теми или иными сословными, хозяйственными и светскими интересами. Сколько есть писателей с дарованием, которых много образованных людей в обществе знавали вовсе не как романистов, драматургов, поэтов, а совсем в других качествах…».

Об этом удивительном человеке отечественный читатель знает лишь по роману Э. Доктороу «Рэгтайм». Между тем о Гарри Гудини (настоящее имя иллюзиониста Эрих Вайс) написана целая библиотека книг, и феномен его таланта не разгадан до сих пор.В книге использованы совершенно неизвестные нашему читателю материалы, проливающие свет на загадку Гудини, который мог по свидетельству очевидцев, проходить даже сквозь бетонные стены тюремной камеры.

Сегодня — 22 февраля 2012 года — американскому сенатору Эдварду Кеннеди исполнилось бы 80 лет. В честь этой даты я решила все же вывесить общий файл моего труда о Кеннеди. Этот вариант более полный, чем тот, что был опубликован в журнале «Кириллица». Ну, а фотографии можно посмотреть в разделе «Клан Кеннеди», где документальный роман был вывешен по главам.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он, говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе, Пикассо.

Эта книга — наиболее полный свод исторических сведений, связанных с жизнью и деятельностью пророка Мухаммада. Жизнеописание Пророка Мухаммада (сира) является третьим по степени важности (после Корана и хадисов) источником ислама. Книга предназначена для изучающих ислам, верующих мусульман, а также для широкого круга читателей.

Сергея Есенина любят так, как, наверное, никакого другого поэта в мире. Причём всего сразу — и стихи, и его самого как человека. Но если взглянуть на его жизнь и творчество чуть внимательнее, то сразу возникают жёсткие и непримиримые вопросы. Есенин — советский поэт или антисоветский? Христианский поэт или богоборец? Поэт для приблатнённой публики и томных девушек или новатор, воздействующий на мировую поэзию и поныне? Крестьянский поэт или имажинист? Кого он считал главным соперником в поэзии и почему? С кем по-настоящему дружил? Каковы его отношения с большевистскими вождями? Сколько у него детей и от скольких жён? Кого из своих женщин он по-настоящему любил, наконец? Пил ли он или это придумали завистники? А если пил — то кто его спаивал? За что на него заводили уголовные дела? Хулиган ли он был, как сам о себе писал, или жертва обстоятельств? Чем он занимался те полтора года, пока жил за пределами Советской России? И, наконец, самоубийство или убийство? Книга даёт ответы не только на все перечисленные вопросы, но и на множество иных.

Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом. Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и, конечно, романом с женщинами. Аристократ по крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в сталинской России, Толстой был актером, сыгравшим не одну, а множество ролей: поэта-символиста, писателя-реалиста, яростного антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита, эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли, заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм, щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и великодушие.