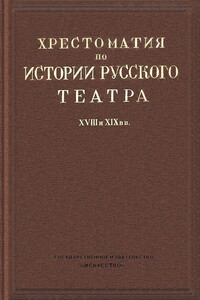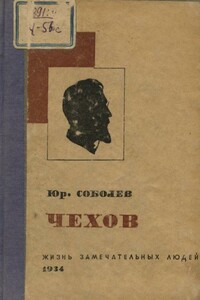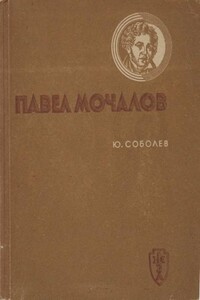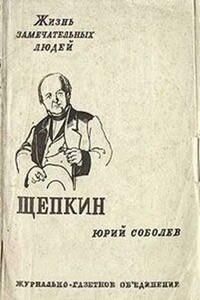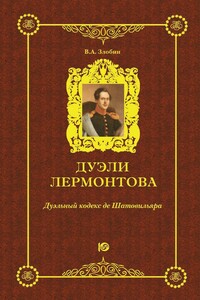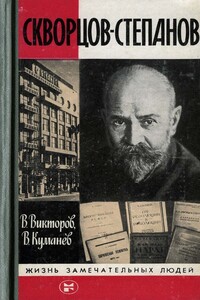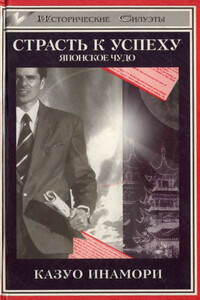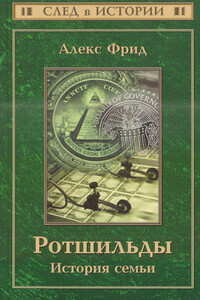1
Никогда Россия не видала в одно время столько отличных писателей и драматических артистов, как в первую половину царствования Александра I, и едва ли где-либо было их столько в одно время. Эта эпоха была для нас то же, что для Рима век Августа.
Из старинных актеров, бывших украшением сцены в конце XVIII века, я видел на сцене Крутицкого, Сандунова и Шушерина. Первого видел я несколько раз на сцене, а в последний раз, уже после его отставки, когда он играл, не помню в чей бенефис, созданную им роль Мельника. Совершенство в полном смысле слова! Манера, ухватки простонародные, но как-то облагороженные; голос, взгляд — все было в нем неподражаемо. Недаром Екатерина Великая восхищалась Мельником! Как теперь вижу Крутицкого! Лицо у него было красивое, но как будто сжатое с обеих щек, рябоватое, нос вострый, губы малые, глаза удивительно живые. Сын его воспитывался вместе со мною в кадетском корпусе, и отец почти в каждый канун праздника приходил за сыном своим. Крутицкий (отец) любил разговаривать с кадетами. Однажды кадеты собрались играть в корпусе «Мельника», и знаменитый актер, узнав об этом, взялся быть нашим учителем. Под его руководством пьеса сыграна была превосходно. Сандунов приезжал в Петербург из Москвы, и я видел его в комедии-фарсе Мольера «Скапиновы обманы», в которой Сандунов играл Скапина, а Рыкалов — обманутого отца. После видел я эту комедию несколько раз на парижской сцене, играемую лучшими актерами, и всегда вспоминал о Петербурге, потому что нигде не встречал лучших комических актеров, как Рыкалов и Сандунов. Трудно вообразить, какой комизм умел сообщить Рыкалов каждому своему слову, каждому взгляду, каждому движению! Когда он, бывало, завопит: «Да зачем его чорт на галеру-то носил!» — невольный хохот раздавался во всех концах театра. Сандунов был тогда уже весьма немолод, но в игре его была живость юноши. Лишь только вышел он на сцену, оглянулся, потер руки и пожал плечами — то, не сказав еще ни слова, уже характеризовал свою роль: нельзя было не догадаться, что этот Скапин плут. Какие интонации в голосе, какая естественность в движениях, что за плутовские взгляды и ухватки! Мольер расцеловал бы нашего Скапина, если б даже не понимал по-русски. Рыкалов был бесподобен в ролях комических стариков, но лучше всего в мольеровских пьесах: в — «Скупом», в «Лекаре поневоле», в «Мещанине во дворянстве». Рыкалов был высок ростом и имел глаза на выкате, которым он умел сообщать неподражаемое выражение простоты и добродушия. Тон голоса удивительно применялся к выражению глаз, и в движениях его была такая естественность, что зритель совершенно забывался. Пономарев играл простаков слуг, подьячих и комических стариков в операх (Кифара в «Русалке»). Те, которые видали его в старости, не могут иметь понятия о том, чем он был в молодых летах и в зрелом возрасте. Игра его была просто неподражаема. Теперь об этом и память погибла! Голос его имел какое-то комическое выражение. Роль подьячего создана им на русской сцене, и теперь нет более ни подлинников в обществе, ни копий на сцене. Этого мы уже не увидим, равно как и деревенского лакея! Когда, бывало, Пономарев появится на сцену, в светлозеленом мундире, в красном камзоле, красном исподнем платье, низкой треугольной шляпе, и затянет своим козлиным голосом подьяческие куплеты — умора! Надобно было надрываться со смеху, когда, не помню, в каком-то дивертисменте, Пономарев запоет плачевным голосом жалобу об уничтожении питейного дома на Стрелке, куда собирались преимущественно закоренелые подьячие. В роли комических лакеев Пономарев смешил до слез одними своими ухватками, хотя бы в роли его и не было ничего остроумного. В «Недоросле» Фонвизина он был единствен: он еще копировал с натуры! Публика наша видела первоклассных итальянских буффо в лице Ненчини и Замбони, и при всем том и раек, и ложи первого яруса отдавали справедливость Воробьеву, ученику знаменитого Дмитревского. В роли Тарабара (в «Русалке») он смешил всех без исключения, но в итальянских операх, например, в «Музыкальном фанатике», удивлял знатоков своим неподдельным комизмом. Воробьев одарен был от природы чудесным свойством смешить даже молча. Бывало, выйдет на сцену, станет в позитуру, сложит руки на груди или заложит за спину, взглянет на публику — и раздался хохот. Он был небольшого роста, плотный, круглолицый, с огненными взорами. Веселость его была неистощима, даже вне сцены. […] Впрочем, при необыкновенном даровании и неисчерпаемой веселости, строгая критика не всегда была довольна игрою Воробьева, потому что он, для угождения толпе, иногда слишком фарсил и утрировал роли и часто, не изучив их, заменял промежутки своими шутками и прибаутками, которые сбивали с толку других актеров. Иногда также он фальшил и не соблюдал такта. Но истинный его комизм и удовольствие, которое он доставлял своим чудным талантом, заставляли публику прощать ему все, и Воробьев, до кончины своей, оставался ее любимцем. Покойный Рамазанов был его учеником, но он далеко отстал от Воробьева! Певцами всегда был беден наш театр, и я помню только двух: Самойлова и Злова. Гуляев имел прекрасный голос, но вовсе не умел играть, а потому ему редко давали роли. Самойлов в молодости своей был чрезвычайно хорош в небольших операх, особенно в русских водевилях. Он был красив лицом, превосходно сложен, и хотя от робости сначала всегда играл неловко, но, ободрившись и войдя в роль, играл бесподобно. Он отлично хорош был в ролях молодых офицеров, русских парней и вообще влюбленных. Впоследствии он составил себе славу в роли