Северные крестоносцы. Русь в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике XII–XIII вв. Том 1 - [5]
Следует добавить, что этнический состав жителей средневекового Новгорода вовсе не был исключительно или даже по преимуществу славянским. Уже в летописной легенде о призвании Рюрика участниками событий обозначены сразу четыре племени: словены, кривичи, меря и чудь. Причем славянских из них только два (словены и кривичи), а другие финно-угорские. В целом они поименованы «новгородстии людие»:
«ти [варяги] насилье деяху Оловеномъ, Кривичемъ и Мерямъ и Чюд. И въсташа Словене и Кривици и Меря и Чюдь на Варягы, и изгнаша я за море; и начаша владети сами собе и городы ставити»[27].
Позднее этот этнический конгломерат сформировал новую и вполне обособленную в рамках Русской земли общность — новгородцев, которые как в культурном, так и в языковом отношении решительно выделялись среди жителей других областей Руси. Это сообщество уже в самый ранний период стремилось расширить сферу своего влияния в северном и северо-западном направлении. Причем ближайшие к Новгороду области впоследствии не только вошли в состав этого государства как равноправные составные части, но порой выступали в качестве важнейшей внутриполитической силы Новгородской республики[28].
Южнее новгородских владений, вдоль русла Даугавы, в то же время распространяло свою власть Полоцкое княжество, установившее данническую зависимость для племен ливов (либь) (побережье Рижского залива), латгалов (летьгола) (севернее среднего течения Даугавы), селов (селонов) (южнее среднего течения Даугавы) и земгалов (семигалов) (на запад от нижнего течения Даугавы). Западнее зоны расселения земгалов Полоцк, видимо, не имел возможности регулярно взимать дань. Эти области были заселены воинственными племенами куршей (корсь, куры), вплоть до начала немецкой экспансии остававшимися фактически независимыми от соседей.
Природные условия в Курляндии даже больше, чем в Эстонии, способствовали обособленному положению местных жителей. Побережье практически не имеет удобных естественных гаваней. Речная сеть не создает условий для организации волоков и сквозного водного сообщения через внутренние области. Русла основных рек региона Венты (с притоком Абава) и Лиелупе (Курляндская Аа) разделены лесистой и труднопроходимой Курземской возвышенностью. Покорение этих областей стало одной из самых кровавых страниц истории немецкой экспансии в Прибалтике.
Севернее Даугавы Видземская возвышенность отделяет ее от полноводной речки Гауя (Койва, Соіѵа, или Лифляндская Аа), в нижнем течении которой, как и на Даугаве, расселялись племена ливов (область Торейда Thoreyda, совр. лат. Турайда, Turaida)[29]. На востоке ливы соседствовали с латгалами, занимавшими все области современной Северной Латвии.
В отличие от Курляндии, балтийское побережье Эстонии очень изрезано и представляет мореплавателям широкий выбор гаваней для укрытия, зимовки, погрузки-разгрузки и торговли. Уже в IX в. эти места активно посещали скандинавские торговцы и пираты. А начиная с XI в. и миссионеры. Однако они редко углублялись далеко от моря. Во внутренних областях Эстонии претензии на господство были монополизированы новгородцами. Основной магистралью здесь являлась река Эмайыги (нем. Эмбах, Embach), которая впадает в Чудское озеро, а в своих верховьях у оз. Выртсъярв (эст. Võrtsjärv, нем. Wirzjärv, Вирцярв) почти смыкается с притоками р. Пярну, уводящей к Балтийскому морю. Еще Генрих Латвийский уважительно называл Эмайыгу — Mater aquarum (Матерь вод)[30]. Крупнейшие поселения внутренней Эстонии и, соответственно, важнейшие пункты контроля колонизаторов над местным населением расположились вдоль этой водной артерии: в среднем течении Эмайыги — Юрьев (Дерпт, Тарту), чуть южнее в верховьях одного из притоков — Оденпе (Отепя, Медвежья Голова)
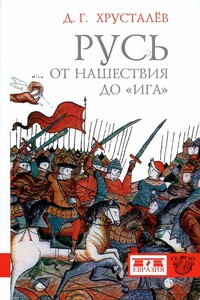
Монгольское нашествие относится к одному из самых мифологизированных периодов русской истории, неизменно привлекающих пристальное общественное внимание. Тем не менее, взглянув на книжную полку, мы к удивлению не обнаружим там современного исследования, в котором фактический материал того времени будет представлен достаточно подробно и без нарочито концептуального флера. Предлагаемая вашему вниманию книга призвана восполнить этот пробел. События в ней представлены на основе всего доступного комплекса источников, максимально подробно и предельно фактологично.

Небольшая книга об освобождении Донецкой области от немецко-фашистских захватчиков. О наступательной операции войск Юго-Западного и Южного фронтов, о прорыве Миус-фронта.

В Новгородских писцовых книгах 1498 г. впервые упоминается деревня Струги, которая дала название административному центру Струго-Красненского района Псковской области — посёлку городского типа Струги Красные. В то время существовала и деревня Холохино. В середине XIX в. основана железнодорожная станция Белая. В книге рассказывается об истории этих населённых пунктов от эпохи средневековья до нашего времени. Данное издание будет познавательно всем интересующимся историей родного края.

У каждого из нас есть пожилые родственники или знакомые, которые могут многое рассказать о прожитой жизни. И, наверное, некоторые из них иногда это делают. Но, к сожалению, лишь очень редко люди оставляют в письменной форме свои воспоминания о виденном и пережитом, безвозвратно уходящем в прошлое. Большинство носителей исторической информации в силу разнообразных обстоятельств даже и не пытается этого делать. Мы же зачастую просто забываем и не успеваем их об этом попросить.

Клиффорд Фауст, профессор университета Северной Каролины, всесторонне освещает историю установления торговых и дипломатических отношений двух великих империй после подписания Кяхтинского договора. Автор рассказывает, как действовали государственные монополии, какие товары считались стратегическими и как разрешение частной торговли повлияло на развитие Восточной Сибири и экономику государства в целом. Профессор Фауст отмечает, что русские торговцы обладали не только дальновидностью и деловой смёткой, но и знали особый подход, учитывающий национальные черты характера восточного человека, что, в необычайно сложных условиях ведения дел, позволяло неизменно получать прибыль и поддерживать дипломатические отношения как с коренным населением приграничья, так и с официальными властями Поднебесной.

Эта книга — первое в мировой науке монографическое исследование истории Астраханского ханства (1502–1556) — одного из государств, образовавшихся вследствие распада Золотой Орды. В результате всестороннего анализа русских, восточных (арабских, тюркских, персидских) и западных источников обоснована дата образования ханства, предложена хронология правления астраханских ханов. Особое внимание уделено истории взаимоотношений Астраханского ханства с Московским государством и Османской империей, рассказано о культуре ханства, экономике и социальном строе.

Яркой вспышкой кометы оказывается 1918 год для дальнейшей истории человечества. Одиннадцатое ноября 1918 года — не только последний день мировой войны, швырнувшей в пропасть весь старый порядок. Этот день — воплощение зародившихся надежд на лучшую жизнь. Вспыхнули новые возможности и новые мечты, и, подобно хвосту кометы, тянется за ними вереница картин и лиц. В книге известного немецкого историка Даниэля Шёнпфлуга (род. 1969) этот уникальный исторический момент воплощается в череде реальных судеб: Вирджиния Вулф, Гарри С.
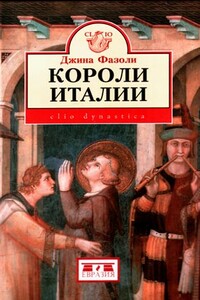
Известный итальянский историк Джина Фазоли представляет на суд читателя книгу о едва ли не самом переломном моменте в истории Италии, когда решался вопрос — быть ли Италии единым государством или подпасть под власть чужеземных правителей и мелких феодалов. X век был эпохой насилия и бесконечных сражений, вторжений внешних захватчиков — венгров и сарацин. Именно в эту эпоху в муках зарождалось то, что ныне принято называть феодализмом. На этом фоне автор рассказывает о судьбе пяти итальянских королей, от решений и поступков которых зависела будущая судьба Италии.
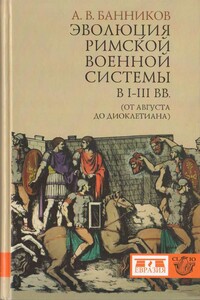
Банников Андрей Валерьевич. Эволюция римской военной системы в I—III вв. (от Августа до Диоклетиана). — СПб.: ЕВРАЗИЯ, 2013. — 256 с., 48 с. цв. илл. Образование при Августе института постоянной армии было поворотным моментом во всей дальнейшей римской истории. Очень скоро сделался очевидным тот факт, что безопасность империи требует более многочисленных вооруженных сил. Главными препятствиями для создания новых легионов были трудности финансового характера. Высокое жалованье легионеров и невозможность предоставить ветеранам в полном объеме полагавшегося им обеспечения ставили правительство перед практически неразрешимой дилеммой: каким образом сократить расходы на содержание войск без ущерба для обороноспособности государства.
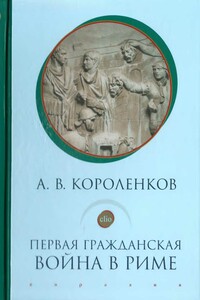
Антон Викторович Короленков Первая гражданская война в Риме. — СПб.: Евразия, 2020. — 464 с. Началом эпохи гражданских войн в Риме стало выступление Гракхов в 133 г. до н. э., но собственно войны начались в 88 г. до н. э., когда Сулла повел свои легионы на Рим и взял его штурмом. Сначала никто не осознал масштабов случившегося, однако уже через год противники установленных Суллой порядков сами пошли на Рим и овладели им. В 83 г. до н. э. Сулла возвратился с Востока, прервав войну с Митридатом VI Понтийским, чтобы расправиться со своими врагами в Италии.
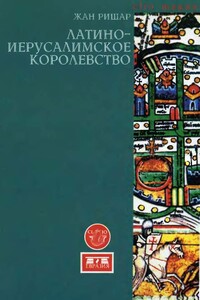
Латинские королевства на Востоке, возникшие в результате Крестовых походов, стали островками западной цивилизации в совершенно чуждом мире. Наиболее могущественным из этих государств было Иерусалимское королевство, его центром был Святой Град Иерусалим с находящимся там Гробом Господним, отвоевание которого было основной целью крестоносцев. Жан Ришар в своей книге «Латино-Иерусалимское королевство» показывает все этапы становления государственности этого уникального владения Запада на Востоке, методично анализируя духовные и социальные причины его упадка и гибели.