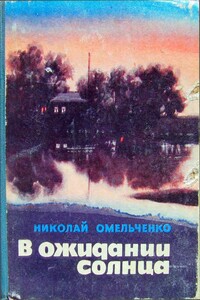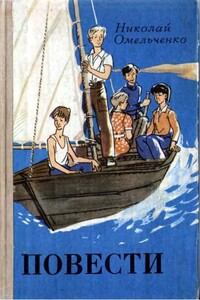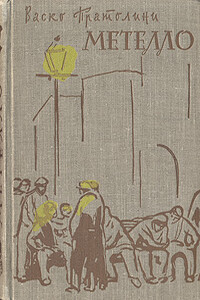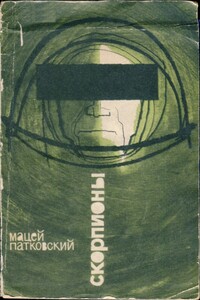В зале было не более десятка людей, но через некоторое время он как-то сразу стал наполняться, в основном молодыми людьми и мужчинами средних лет. Все старались занять место поближе к продолговатому, обитому мягкой материей помосту, стоявшему в центре зала. По грубо сколоченной лесенке на помост поднялась девушка, виляя бедрами прошлась и остановилась на середине, развела в стороны руки, подняла их вверх, лениво потягиваясь, бросая томные взгляды в зал и улыбаясь с какой-то отрешенной загадочностью. Откуда-то, будто с потолка, упала музыка. Девушка медленно сняла манто, небрежно бросила его себе под ноги, проплыла по помосту в неторопливом танце, затем медленно стала расстегивать и снимать кофточку; упали на помост юбка, рубашка, бюстгалтер, трусики, на ней остались только чулки и туфли. «Да это же обыкновенный стриптиз», — с брезгливостью подумал я и даже оглянулся, мне казалось, что все смотрят на меня, старого человека, пришедшего сюда похотливо любоваться обнаженным молодым телом. Однако никто не обращал на меня внимания, все взоры были устремлены на помост. А там творилось бесстыдство — голая девушка делала «мостик», закидывала на голову ноги, мяла свои округлые красивые груди, призывающе вскидывала руки, как будто страстно звала к себе кого-то. Вот она уже ложится рядом с этим воображаемым кем-то, изображая любовную игру, и наконец под убыстряющуюся музыку началась имитация страстного полового акта. Зал гоготал и аплодировал. Девушка поднялась и, улыбаясь, несколько застенчиво и сдержанно кланялась, как это обычно делают актрисы. Затем быстро накинула на себя манто и, незаметно подобрав свои вещи, сошла по лесенке в зал. Ко мне подошел официант, я положил на стол полтора доллара и собрался уходить, думая: «Чем бы моя Калина не занималась, но постыднее того, что я только что увидел, быть не может». Не успел я об этом подумать, как увидел, что в зал в том же меховом манто вошла моя Калина и направилась к помосту. Я вначале не поверил, казалось — галлюцинация, такое случается от переживания и волнений. Но это была именно она, мы шли навстречу друг другу, я из зала, а она — в зал, на помост. Наши взгляды встретились, в глазах у Калины полыхнуло черное пламя ужаса, и лицо стало совершенно белым. Она на миг остановилась и, едва разжимая губы, прошептала:
— Сейчас же уходи отсюда! Молю тебя, ради всего святого!..
Это был не ее голос, не голос моей нежной Калины, так похожей на мою мать, но это была она, Калина. Произнесенные ею слова прозвучали так, будто в них была предсмертная мольба. Если бы не эта мольба, я бы схватил дочь за руку, — у меня хватило бы сил, — и унес ее куда глаза глядят. Но я не стал этого делать, пошел к выходу и уже у двери обернулся: Калина стояла на помосте и ждала, пока я уйду, лицо ее страдальчески кривилось; таким в трудные минуты становилось лицо моей матери. О, как она сейчас была похожа на мою мать — беленькая, круглолицая, голубоглазая! Ничего от смуглого рода Джулии, как в Тарасе и Джемме, все наше, славянское. Я не стал отягощать своим присутствием дочь, вышел на улицу и тяжело опустился на скамейку рядом с отелем. Так и просидел бесчувственно, как истукан, пока не услышал голос Калины:
— Папа, пошли ко мне, ты простудишься, весна такая сырая.
— Лучше бы я умер в тот момент, когда увидел тебя здесь.
— Не говори глупостей, ты сам меня учил: никакая работа, если она честная, не может быть позорной.
В номере она не выдержала и расплакалась, уткнувшись личиком в мое плечо:
— Папочка, ты все видел?
— Я видел твою напарницу, и этого достаточно.
— Я когда-то думала: если кто-нибудь из наших увидит меня здесь, то я… ну, помнишь того индейского мальчика?.. Я, как и он, уйду в Ниагару, в радугу…
— Не надо, доченька, думать об этом. Не надо, если ты любишь нас. Кроме нас, ты никому не принесешь горя своим уходом. Надо выжить, моя девочка.
Уже стемнело, а мы сидели, не зажигая света. Калина, как в детстве, взобралась ко мне на колени и плакала. Я слышал, как она иногда тихо смеялась, вероятно, далее в горе у человека бывают свои затаенные радости; скорее всего, это была радость общения со мной и того, что наконец все как-то прояснилось, нет у нее больше скрытой от меня тайны, так мучившей ее. Ей хотелось быть до конца откровенной со мной, и она сказала:
— Я хорошо заработала, теперь у меня есть деньги…
— Какие это деньги? Разве на этом много зарабатывают? Я заберу тебя к нам, твоя комната свободна, там роботы Жунь Юнь. Приезжай и занимай ее, будешь жить с нами, отступись от этой канадской моды — жить отдельно. Пусть так живут парни, а девушка до замужества должна жить с родителями. Не надо подражать Джемме, у нее и характер другой, и зарабатывает она больше тебя. На днях вернулась, мы встретили ее.
Калина отстранилась от меня:
— Почему так рано?
— Как и положено, — сказал я.
— Ничего подобного, с ней что-то случилось, а вы от меня скрываете.
— Мелочи…
— Но из-за этих мелочей вы поссорились! — уверенно сказала Калина.
— Откуда ты это взяла?
— Все оттуда же… Если бы вы не поссорились и ты чем-то не донял ее, она бы никогда не сказала, что я работаю у Джеймса Лина. Только она знала об этом, я ей доверилась. А теперь ты ее обидел, наверное, сказал, что я хорошая дочь, а Джемма плохая, и она не преминула доказать тебе, что я хуже нее.