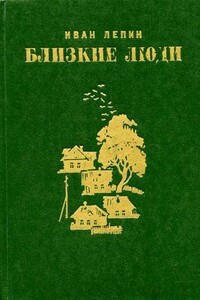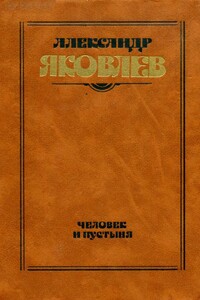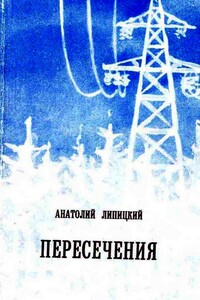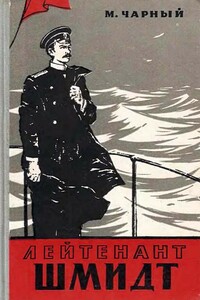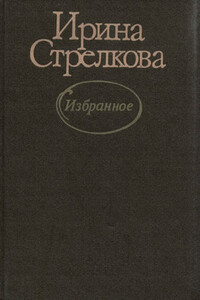Позванивают стенки ведра, идет работа полным ходом. Помогаю Наде, стараюсь изо всех силенок.
А что там желтенькое блестит во взрыхленной земле?
Я ковырнул пальцами и — вот это находка! — целая обойма винтовочных патронов. Пять штук! Вытащил из обоймы один патрон, посмотрел на пистон: красный кружок горел, как новенький. Я спрятал патроны за пазуху, а то еще Надя заметит и отнимет: патроны — не игрушка, это мы, ребята, знаем. У меня уже не раз отбирали патроны и Даша, и Надя: их, патронов, с войны на огородах и в садах много осталось.
Пять штук! Вот это удача! Надо патроны подальше спрятать. За стреху — это надежно. Там я обычно табак в тряпице прячу, спички, кресало.
Назавтра во время первой перемены Иван Павлович подозвал меня к себе и тихонько, чтобы никто, не слышал, сказал:
— Еще замечу с папиросой — губы отобью. А потом жалуйся хоть самому министру. Кто тебя, кстати, курить научил?
У меня навернулись слезы.
— Сам. Я от больших ребят слышал, будто после курения есть не хочется. Попробовал — правда. Вот и научился… Но больше не буду.
Иван Павлович для вида кашлянул два раза, на удивление мягко сказал:
— Понятно… В общем, поменьше слушай больших ребят: они иногда и разные глупости говорят… Иди гуляй.
ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА
Неужели я тик и сказал: «Губы отобью!»? Видно, еще тот педагог я был попервоначалу.
А курить ты так и не бросил. Пять лет я тебя учил, пять лет выворачивал карманы с самосадом.
Писать, читать, считать я умел, а большинство ребят только изучали азбуку, выводили элементы букв и упражнялись в счете до десяти. Учился я легко, домашние задания выполнял быстро и вместе с Вовкой Комаровым да еще двумя-тремя девчонками вскоре стал получать пятерки.
Радовался я, радовались сестры.
Только и беда подкрадывалась.
Летнее тепло все заметнее отступало, все явственней ощущалось приближение осени. Собравшись в огромные стаи, улетали скворцы, уносились на юг журавли, дикие гуси, утки. Деревья стряхивали побагровевшие листья.
Убраны с огородов картошка, бураки. Только одни капустные кочаны сидели на грядках и наливались последним — самым, должно быть, сладким — осенним соком земли.
Стало холодно ходить в рубахе и штанах, надетых на голое тело (трусов и маек мы тогда не знали). Да на беду еще беда: отвалились подошвы у моих тапочек-ходаков…
В то утро, подкрашенное восходящим солнцем, я выглянул в окно и замер в растерянности: трава была покрыта инеем. А, кроме ходаков, другой обувки нет. Что хочешь, то и делай.
И вот, собравшись в школу, я сел за стол босиком.
— Ты чего без ходаков? — спросила Даша.
— Подошвы оторвались.
— Во, враг, а что ж ты молчал?
«Враг» — любимое ее словечко.
— Забыл.
— Сиди нонче дома.
— А Школа?
— Не пойдешь же разутым?
— Пойду.
— По инею?
— А что? Он растаить скоро.
— Заболеть захотел? Не пущу, и все.
Было бы сказано, а забыть недолго. Когда Даша пошла за водой к колодцу (он метрах в ста от хаты), я схватил сумку с тетрадками да букварем и — бегом в школу. Выскочил за деревню, не ощущая холода, и только за деревней, запыхавшись, пошел шагом.
Глянул на босые ноги — красные, как у гуся лапки. Пальцы, подошвы жгло холодным огнем, в них покалывало множество иголок.
Шагом идти, я понимал, было нельзя: заколовею окончательно, вернусь. А какой же я буду отличник, если уроки начну пропускать? Отстану от Вовки, да и Иван Павлович может изругать. Это не причина, скажет, — отсутствие обуви, вот некоторые с самого первого сентября необутыми приходят на занятия.
Собрался я с духом и побежал. Бежать старался по вытоптанной тропке, но иногда ноги мне не подчинялись, и я ступал в покрытую седым инеем придорожную траву.
«Только бегом, — подстегивал я себя, — иначе совсем замерзну и — права будет Даша — простужусь».
Дышал ртом, горло пересохло, под лопатками покалывало от частого дыхания. Но вон уже видны и первые хаты Болотного. Вон видна красная крыша школы…
Явился я в числе первых. Эти первые — Мишка Казаков и Петька Хохлов из Болотного, Витька Долгих, наш хорошаевский малый, — были тоже босыми. Значит, я не в одиночестве и стыдиться своих голых ног мне нечего. Да и какой стыд? Многие обуты как зря, не в свою обувку, а в ту, что дома нашлась.
Ноги отяжелели, казались деревянными. Не о стыде надо теперь думать, а о том, как согреть их. Вон сосед мой по парте, Казаков, тот поджал ноги под себя, усевшись, на скамейку. Что ли, и мне так? Дай-ка попробую…
Потихоньку-помаленьку подходили другие ученики.
Ноги согревались. Сидел и радовался: а ловко я из дома удрал!
Вот в класс вошел Пашка Серегин. Он обут в галоши со множеством приклеенных заплаток, а вместо носков у него — легкие портянки.
— Ты чего не подождал? — это он у меня спросил.
— Я сбежал: Дашка не пускала.
— А у меня жмых есть.
— Дай.
Пашка ехидно прищурил глаза.
— За пять шелобанов.
Я его слова принял за насмешку, издевательство. Ах ты, гад такой!
— Пропади ты пропадом со своим жмыхом! — выпалил я в сердцах. — Я тебе этот жмых припомню…
Пашка, поняв, что унизить меня не удалось, дружелюбно сказал, вытаскивая из сумки кусок желтого конопляного жмыха:
— Я пошутил, а ты разъерепенился. На, ешь.