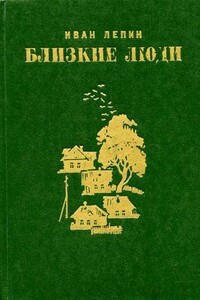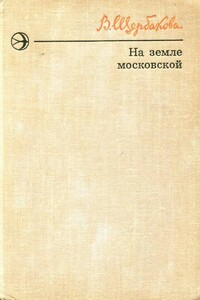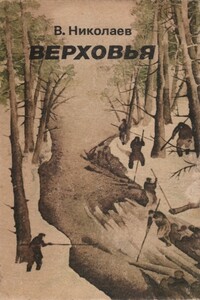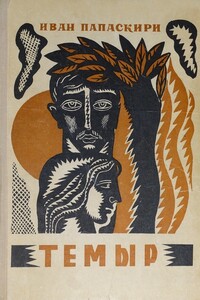Пашка Серегин сидел далеко сзади, на последнем ряду.
Рассадил нас Иван Павлович и начал урок:
— Сегодня, ребята, вы стали школьниками. Отныне вся ваша жизнь подчинена одному большому делу — овладению знаниями. Я научу вас читать и писать, считать и рисовать, вы узнаете, почему день сменяет ночь и отчего летом идет дождь, а зимой снег, куда улетают птицы и как растут деревья… Все это вам пригодится потом, когда вы станете взрослыми…
Иван Павлович — высокий, стройный, красивый. Волосы у него гладко причесаны назад, на левом виске виднеется белый шрам — видать, от ранения. Да, точно, от ранения. Даша как-то рассказывала, что его в первые дни войны ранило — в голову.
Волнуясь, иногда запинаясь, чистым голосом говорил Иван Павлович. Слушая его, я одним глазом заметил, как под самым окном затеяли драку два воробья — словно маленькие петушки наскакивали друг на друга. Посмотреть бы, чем окончится драка, но Иван Павлович, мне кажется, глядит именно на меня, и стоит мне чуть повернуть голову, как получу замечание. Подумал: «Неужели так вот — неподвижно, руки на столе, голова прямо — сидеть из года в год, пока не выучишься и не станешь большим?»
А воробьи, гляди-ка, как озоруют! Уже с десяток собралось возле дерущихся и шумно подзадоривают их — точь-в-точь как бывает среди нас, ребятни.
Я не выдерживаю и поворачиваю голову.
— …Надо привыкать слушать учителя внимательно, — как бы между прочим говорит Иван Павлович, и я еще не догадываюсь, что эти слова обращены ко мне. — Нельзя вертеть головой, иначе все сказанное мной будет в одно ухо влетать, из другого вылетать, и вы ничему не научитесь…
По классу пронесся легкий смешок, я мигом оторвал взгляд от воробьев и, как ни в чем не бывало, посмотрел в глаза Ивану Павловичу. Он покачал головой: нехорошо, мол, отвлекаться. Я застыдился, покраснел, а он продолжал вести первый наш урок: начал объяснять правила поведения. Я напряг слух и вскоре усвоил, что в классе мы должны: приветствовать учителя вставанием, а не криком «Здравствуйте!»; поднимать руку, если о чем-нибудь захочешь спросить учителя; не разговаривать на уроке друг с другом; все задания выполнять самостоятельно.
Вне класса необходимо помнить о том, что мы школьники. А посему:
со старшими при встрече здороваться первыми;
обращаться к старшим на «вы»;
уступать пожилым людям, дорогу, быть всегда и везде с ними вежливыми;
не выражаться плохими словами;
не обижать девчонок;
не брать пример с тех старших, которые курят…
Вот это да!
Мы с Пашкой, выходит, уже взяли плохой пример? А Вовка Комаров не курит — значит, лучше меня? И верно: он тоже, как и я, умеет читать и писать, но, говорят, еще и складывать может. Я лишь немножко могу, на пальцах. А Вовка складывает числа в уме. Ему, выходит, быть отличником, а не мне…
Ничего не поделаешь, придется от плохих привычек отвыкать, надо догонять Вовку. Я тоже хочу ходить в отличниках!..
— А теперь — перемена, — объявил Иван Павлович, но никто не встал со своего места, не понимая, чего от нас хочет учитель. — Перемена! — сказал он громко. — Идите гулять…
Из школы я шел с Пашкой Серегиным. Вовка Комаров со своими дружками убежал вперед, девчонки плелись сзади. А мы шли простым шагом — не скоро, не медленно. Со всеми встречными громко здоровались, как научил нас Иван Павлович. Крикнем: «Здравствуйте!» — а сами хохочем. С нами по-доброму здоровались знакомые и незнакомые, приговаривали: «Что здороваетесь — молодцы, только зачем же смеяться?!»
Шли, болтали, лягушек спугивали (дорога наша лежала у подножия бугра, откуда начиналось торфяное болото).
С болота тянуло сыростью, а с бугра — теплым, запахом конопли и картофельной ботвы.
Холщовые сумки шлепали нас по тощим задам.
Впереди виднелась фигура человека, медленно идущего в сторону Хорошаевки. Присмотрелись к одежде — выгоревшая стеганая фуфайка, а на ногах — глубокие шахтерские галоши, на голове — старая кубанка с бледно-красным полинявшим крестом сверху. Узнали: конюх дед Степан. Он кубанку и летом не снимает. И галоши у него незаменимые (сын в Донбассе работает, снабжает галошами).
Я просиял и хлопнул в ладоши:
— Следим!
Пашка, конечно, догадался, что означало это «следим!», и мы прибавили ходу. Дело в том, что дед Степан был в нашей деревне самый заядлый курильщик. Папиросу из зубов не выпускал. Досмаливал одну, тут же скручивал другую, а прикурив от окурка, отбрасывал его в сторону. Мы не раз уже пользовались неосмотрительностью конюха, подбирали окурки и, обжигая пальцы и губы, вдоволь накуривались крепким — невпродых — самосадом.
Вот и теперь представился случай.
Но Пашка вдруг схватил меня за руку:
— Нельзя ведь нам теперь! Иван Палч что на уроке говорил?
— Последний раз…
— Не, я не буду курить.
— А я…
Не успел я договорить, как заметил, что дед Степан щелчком выбросил окурок в придорожную жигуку. Я кинулся туда, как коршун за цыпленком.
Осенняя злая жигука ожгла мою руку сквозь рубаху, но я все-таки дотянулся до заветного дымящегося окурка. Оторвав заслюнявленный конец, сделал первую сладкую затяжку.
И не успел я выпустить дым, как услышал за спиной голос:
— Так-так, покуриваем, значит…