Сад признания - [6]
Язык, который Новарина так любит рассматривать в его первичном значении, играя на присущей ему двойственности, — это в первую очередь мускул, при помощи которого продуцируется слово. Язык («мускул, покоренный коммуникацией») с детства обучается языку (языкам), становясь тем самым послушным орудием ортофонии, служа целям понимания и выражения. Новарина же стремится разработать для него особого рода акробатические упражнения, гимнастику, чтобы язык смог сказать то, чему его никто не обучал. Новарина хочет дать языку право речи — и, значит, право на бесконечность возможностей, желая, чтобы наконец зазвучал неслыханный дотоле язык, язык вавилонского столпотворения, но только без последовавшего затем в истории наказания. Язык должен выйти за пределы своей коммуникативной и номинативной сущности. Необходимо, считает Новарина, ввести речь в язык, а не оставлять ее умирать в языке (ср. реплику, которую он вкладывает в уста Луи де Фюнеса: «Речь — это наше истекание кровью в пространстве»). Современный кризис литературы заключается не в кризисе смысла, но в кризисе выражения.
Отсюда, в частности, и его пристрастие к лексическому творчеству: к созданию неологизмов (топонимов, хрононимов, каламбуров, «слов-бумажников»[20], «слов-сфинксов»[21], ономатопей), пристрастие к аллитерациям и ассонансам, к риторическим фигурам, среди которых антанаклаза (многократное повторение слова, причем каждый раз в новом значении); катахреза (сочетание в одной синтагме двух или нескольких несовместимых слов), парономазия (смысловое сближение слов, имеющих приблизительное звуковое сходство), силлепс (реализация в контексте прямого и переносного значения слова). «Новарина — неоморфолог, который пользуется всякими остатками, обрубками слов: у морфолога ничто не поступает в морг. Словесное — это тот материал, который углубляют, раскапывают, а не инструмент для углубления, посредством которого овладевают окружающим миром»[22].
Для лингвиста творчество Новарина особенно интересно своим постоянным поиском в области речи. И при этом его удача, как считает современная критика[23], — в избежании одной из смертельных ловушек речи — нарратива. В самом деле, в своих поисках асимптоты речи, он, казалось бы, постоянно пытается противостоять соблазну рассказывания (что вызывает в памяти известный парадокс Итало Кальвино: «Человек, прежде чем он начал думать, рассказывал истории»).
Вместе с тем Новарина противостоит не только соблазну нарратива, но еще и соблазну коммуникации, утверждая, что акт коммуникации могут совершать трубы, сообщающиеся сосуды, компьютеры, но только не человек, для которого всякая речь — первооснова, ибо она дает человеку возможность быть: «Мы рождены речью, призваны говорить, мы — рожденные танцоры, мы — призванные, а не коммуникативные бестии» («Театр речи»). Ибо речь (говорение) — это более, чем взаимный обмен настроением и идеями, это еще и «дыхание и игра, говорить — это драма». Вымысел (fiction) неотделим более от момента произнесения, он создается говорящим в речи. Вымысел не может быть представлен как произведение, заранее заданная фабула, но лишь как процесс: не сделанное, но то, что находится в процессе деяния[24]. Именно поэтому, утверждает Новарина, всякая настоящая речь есть возмутительница спокойствия, что, в конечном счете, влечет за собой вопрос более глобального порядка — что есть литература.
За вопросом о языке, пытающемся свести живой поток речи к отдельным названным вещам, и речи, которая, в своем сражении с языком «опрокидывает мертвые идеи», встает еще один вопрос: о вербальной сущности человека, или, как определяет Новарина, «вербальной плоти человека», то есть онтологический вопрос о говорящем создании, которое «думает как дышит» и из которого современный новояз (современная культура) хотел бы сделать машину, способную произносить лишь узкий набор узаконенных слов[25]. Так что когда Новарина говорит, что мы созданы дыханием и что действительность порождена речью, он имеет в виду, что нет ничего более человеческого, чем речь, и что речь есть само условие человеческого существования, и что мир, равно как и человек, не существует вне речи. В таком случае речь оказывается первична по отношению к материи; и потому, как только новаринский актер выходит на сцену, отношения между словами и вещами опрокидываются: «Актер говорит камням и напоминает материи, что она — внутри слов». В этом, по словам одного из критиков, — миф об Орфее, но наоборот: не пение заставляет двигаться скалы, деревья, растения и животные к тому, кто поет, но сам поющий, его голос, смысл и звук обнаруживаются в их возвращении к естественным истокам[26].
Будучи сам создан речью, новаринский человек своим «глаголением» способен еще и переделать, пересоздать мир. Слова он воспринимает настолько серьезно, что распыленность фонем, разорванность смысла в различных языках и в его собственном языке приводит его всегда к единству смысла (ср. в «Саду признания»: «Реальность здесь отмечена входной дверью, написанной: Вход в реальность вещей высказанных
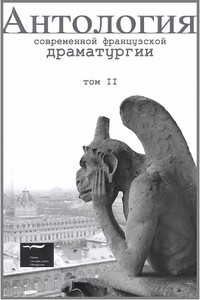
Во 2-й том Антологии вошли пьесы французских драматургов, созданные во второй половине XX — начале XXI века. Разные по сюжетам и проблематике, манере письма и тональности, они отражают богатство французской театральной палитры 1970–2006 годов. Все они с успехом шли на сцене театров мира, собирая огромные залы, получали престижные награды и премии. Свой, оригинальный взгляд на жизнь и людей, искрометный юмор, неистощимая фантазия, психологическая достоверность и тонкая наблюдательность делают эти пьесы настоящими жемчужинами драматургии.

Популярный французский писатель Паскаль Рютер — автор пяти книг, в том числе нашумевшего романа “Сердце в Брайле”, который был экранизирован и принес своему создателю несколько премий. Как романист Рютер знаменит тем, что в своих книгах мастерски разрешает неразрешимые конфликты с помощью насмешки, комических трюков и сюрпризов любви. “Барракуда forever” — история человека, который отказывается стареть. Бывший боксер по имени Наполеон на девятом десятке разводится с женой, чтобы начать новую жизнь.
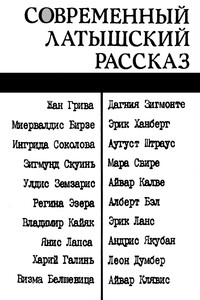
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
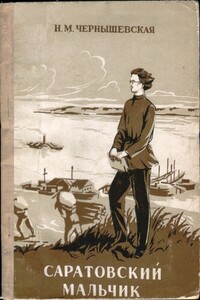
Повесть для детей младшего школьного возраста. Эта небольшая повесть — странички детства великого русского ученого и революционера Николая Гавриловича Чернышевского, написанные его внучкой Ниной Михайловной Чернышевской.
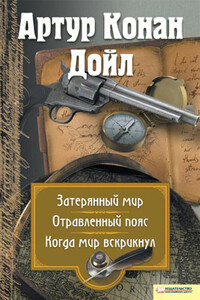
В книге собраны самые известные истории о профессоре Челленджере и его друзьях. Начинающий журналист Эдвард Мэлоун отправляется в полную опасностей научную экспедицию. Ее возглавляет скандально известный профессор Челленджер, утверждающий, что… на земле сохранился уголок, где до сих пор обитают динозавры. Мэлоуну и его товарищам предстоит очутиться в парке юрского периода и стать первооткрывателями затерянного мира…

В книгу вошли повести и рассказы о жизни подростков. Автор без излишней назидательности, в остроумной форме рассказывает о взаимоотношениях юношей и девушек друг с другом и со взрослыми, о необходимости воспитания ответственности перед самим собой, чувстве долга, чести, достоинства, любви. Рассказы о военном времени удачно соотносят жизнь нынешних ребят с жизнью их отцов и дедов. Издание рассчитано на массового читателя, тех, кому 14–17 лет.
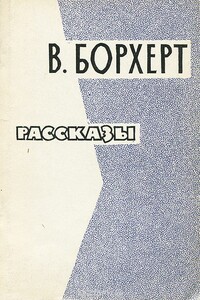
Умерший совсем в молодом возрасте и оставивший наследие, которое все целиком уместилось лишь в одном небольшом томике, Вольфганг Борхерт завоевал, однако, посмертно широкую известность и своим творчеством оказал значительное влияние на развитие немецкой литературы в послевоенные годы. Ему суждено было стать пионером и основоположником целого направления в западногерманской литературе, духовным учителем того писательского поколения, которое принято называть в ФРГ «поколением вернувшихся».