Сад признания - [16]
Земля испытывает глубокий стыд за кровь, что выпьет нас всех, тебя и меня. Земля уже не в состоянии впитывать в себя кровь.
Я тоже, мне тоже стыдно продолжать миндальничать с кровью, стыдно мне. Но стыдно и оставаться без крови. Смерть явилась мне подобием жизни, где я всегда должен был притворяться, что считаю раз-два-три-четыре-пять и иду искать.
Повторите же здесь перед всеми фразу, которую вы слышали в юности от вашего брата Лукиана, когда он ползал еще по земле в бытность свою терапевтическим мальчиком.
«Что до меня, то после того, как я был обмыт крещением, я столько же раз дотрагивался до мертвецов, сколько свершал смертных дел, и со мною произошло то же, что приключилось с псом: ибо — пес вернулся к тому, чем его вырвало, вымытая свинья снова вывалялась в говне».
Пред домом брата своего клещевик Рокамболь Свинчаткин глубоко рассекает себе рукав; Младенец Слонимчик свершает акт воздействия; пред множеством людей Шеф-Плойщик отправляется на покой на этом свете; Младенец Систр и Младенец Ростр приходят от того в волнение; на балу в Валуйках-Сортировочной Комедиант Епитимий измеряет размеры окошка тюремной приемной для посетителей; застрявшие на вокзале Усть-Есь-Каменогорска Несрочный Зверь и Чужая Жена пребывают в надежде, что времена распогодятся; перед фотографией своего отца ведет себя по-человечески Жан Литьяк.
Мы создаем целое из обработанного праха и логического вещества, от которых нам бесконечно трудно опорожниться.
Язык нас покидает; покидает нас язык; о львы, не вы ли выли у Невы?
Если язык покинет нас, то мы скажем животным, что станем мы двумя важенками, ты и я.
Они дышат духом своим и мыслят всем весом своим; каждый из них выводит на прогулку свое тело в свою собственную мысль, держа его неподвижным там, где проступает его вещество.
Эй, животворный мой вздох? Кто ты, ды́шаший подле меня? — Твой животворный вздох, что проникает в тебя. Но почему идешь ты? — Я зверь, говорящий зверю твоему[69], что зверь твой теперь опасно болен, тогда, когда зверь твой умер. — Разве ты тлен вещества, чья единственная частица и есть я? Кто ты, кому задаю я вопрос, не услышав в ответ никакой о́тглас? — Не твой животворный вздох, но твой булыжник-мозг в мысли твоей, еще лишенной речей! твой жизнь! — Зверь! — Я есть животворный вздох, покоящийся здесь словно мох под сенью древних камней; в твоем мозгу я мысль скороиспортящаяся в словах. — Нет, мой животворный вздох, в ваших словах мне виден подвох: это вашим нутром вдохнули меня! Ваше тело — здесь — не более, чем труба глаголемая. — Трубка его? ты сказал «его трубка»? — Глаголя с тобой и тебе внимая, все меньше и меньше я понимаю, от кого изошел животворный вздох и кому досталась трубка тела, что ему принадлежали. Отвечайте же! — Давайте закутаем мои слова материей: быстрее же! Закутаем материей мои слова! Быстрее же! Тело мое, повтори еще раз все это для тела моего! — Да, нога моя, быстрее! Замолчите же, воля моя! Будь хорошей девочкой, поджелудочная железа моя! Желудок мой, умейте властвовать собой! Кто даст ответ? Ватерклозет? Вы ошиблись, то не память моя. Что еще сказать? Желудок вам уже все рассказал? О, мой животворный вздох, настало время молчания, ибо не можешь ты не узреть, что пространство сие превратилось в лобное место распинанья материи.
Она повсюду избегает мысль и камень и, однажды взгромоздившись на что-то высокое, видит то, на что указывает ей ее череп, как на цель ее молитвы: булыжник! То, что подброшено в воздух, да не упадет. Они проходят жизнь по диагонали, те, кто вращиваются в жизнь на тринадцати метрах в течение пяти минут.
Да, да.
Вашими подброшенными вверх словами открывается здесь еще единожды на земле некоторое количество вещей. И все же реальность остается неподвижно-спящей. На этом свете принимают они все свои чувства, от низа истекающие, за чувства, от верха исходящие, а на том свете, коему имя цокотуха, принимают они все чувства этого света за бесчувствие духа. Те, кто остаются, приходят: они освобождаются, сексом обжигаются и подбрасывают вверх камни.
О тело тел, тела́! Я одеваюсь в вас, дабы подарить себе мир на съедание. Человек есть носитель своей немоты, своего глаголенья, потока своего, что завораживает тишину, устами своими удерживая семена молчания.
Если слепые сумели глаголить с тобой, то пусть тогда их увидят глухие!
Что дал ты на съедание голове своей, испитой днем сегодняшним? Эй, Живчик-Жан-Иван, покормил ли ты корпускулу своей личности?
Да нет.
Что дал ты на съедание голове Иоанна Молчальника?
Вздох животворящий.
Пищей жизни моей была особь человеческая, хлебом жажды моей была моя жажда!
Так пойдем же, прежде чем покинуть наши тела, поздравим их с тем, что и мы когда-то мы в них обитали.
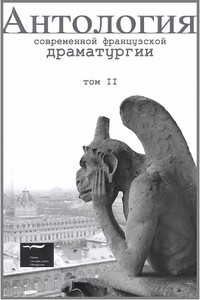
Во 2-й том Антологии вошли пьесы французских драматургов, созданные во второй половине XX — начале XXI века. Разные по сюжетам и проблематике, манере письма и тональности, они отражают богатство французской театральной палитры 1970–2006 годов. Все они с успехом шли на сцене театров мира, собирая огромные залы, получали престижные награды и премии. Свой, оригинальный взгляд на жизнь и людей, искрометный юмор, неистощимая фантазия, психологическая достоверность и тонкая наблюдательность делают эти пьесы настоящими жемчужинами драматургии.
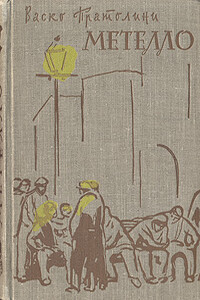
Без аннотации В историческом романе Васко Пратолини (1913–1991) «Метелло» показано развитие и становление сознания итальянского рабочего класса. В центре романа — молодой рабочий паренек Метелло Салани. Рассказ о годах его юности и составляет сюжетную основу книги. Характер формируется в трудной борьбе, и юноша проявляет качества, позволившие ему стать рабочим вожаком, — природный ум, великодушие, сознание целей, во имя которых он борется. Образ Метелло символичен — он олицетворяет формирование самосознания итальянских рабочих в начале XX века.

В романе передаётся «магия» родного писателю Прекмурья с его прекрасной и могучей природой, древними преданиями и силами, не доступными пониманию современного человека, мучающегося от собственной неудовлетворенности и отсутствия прочных ориентиров.
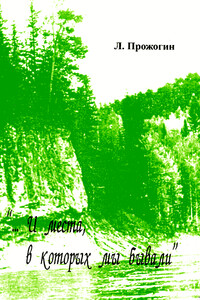
Книга воспоминаний геолога Л. Г. Прожогина рассказывает о полной романтики и приключений работе геологов-поисковиков в сибирской тайге.

Впервые на русском – последний роман всемирно знаменитого «исследователя психологии души, певца человеческого отчуждения» («Вечерняя Москва»), «высшее достижение всей жизни и творчества японского мастера» («Бостон глоуб»). Однажды утром рассказчик обнаруживает, что его ноги покрылись ростками дайкона (японский белый редис). Доктор посылает его лечиться на курорт Долина ада, славящийся горячими серными источниками, и наш герой отправляется в путь на самобеглой больничной койке, словно выкатившейся с конверта пинк-флойдовского альбома «A Momentary Lapse of Reason»…
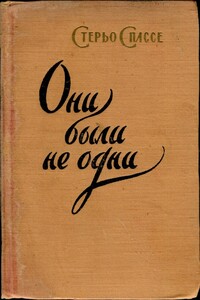
Без аннотации.В романе «Они были не одни» разоблачается антинародная политика помещиков в 30-е гг., показано пробуждение революционного сознания албанского крестьянства под влиянием коммунистической партии. В этом произведении заметно влияние Л. Н. Толстого, М. Горького.

«Отныне Гернси увековечен в монументальном портрете, который, безусловно, станет классическим памятником острова». Слова эти принадлежат известному английскому прозаику Джону Фаулсу и взяты из его предисловия к книге Д. Эдвардса «Эбинизер Лe Паж», первому и единственному роману, написанному гернсийцем об острове Гернси. Среди всех островов, расположенных в проливе Ла-Манш, Гернси — второй по величине. Книга о Гернси была издана в 1981 году, спустя пять лет после смерти её автора Джералда Эдвардса, который родился и вырос на острове.Годы детства и юности послужили для Д.