С Антарктидой — только на Вы - [22]
Я мысленно прокручивал весь наш полет, лежа в теплой постели в домике под снегом, и вдруг поймал себя на мысли — а не приснился ли он? Нет, не приснился. Во мне еще живет неприятное ощущение опасности, расположившейся в пилотской кабине и летевшей вместе с нами от взлета на «Востоке» до посадки в «Мирном», и я до сих пор не могу от него избавиться. Болят руки, пальцы которых сгибаю с трудом. Шесть часов практически без передышки я сжимал ими штурвал, удерживая машину на курсе и борясь с креном. Мысленно поблагодарил свои руки за сделанную работу, и это было последнее, что помню, — сон навалился мгновенно, унося меня теплой волной туда, где хорошо и спокойно.
А потом мы перетаскивали машину поближе к поселку для ремонта, несли дежурство по станции. Минули февраль, март. Приближалось время прощания с теми, кто уходил на «Оби» домой.
Письма домой...
... Проснулся среди ночи с таким ощущением, что меня кто-то разбудил. Прислушиваюсь — нет, тишина, все спокойно. И вдруг вспоминаю, что не дописал письмо домой. Ловлю себя на том, что эти письма становятся какой-то навязчивой идеей. Все время кажется, что не успел, упустил, не сумел сказать что-то очень важное, без чего дома не поймут, как ты их любишь, как все, что ты здесь делаешь, — не только ради большого дела, но и для того, чтобы тобой могли гордиться те, кого ты любишь. И вот снова и снова, в любую свободную (от полетов, авралов по расчистке станции от снега, дежурств по кухне и других неизбежных работ) минуту хватаешься за перо в надежде, что сегодня, сейчас наконец-то сумеешь сказать что-то главное, очень важное о себе, о тех, кому пишешь, но...
Так и теперь. Встаю, зажигаю настольную лампу, загораживаю ее свет, чтобы он не разбудил Костырева. Белый лист бумаги, лежащий передо мной, равнодушно ждет. «Сегодня опять ходили на "Восток"», — начинаю я. Во всех письмах — про полеты на «Восток». Ничего нового. Она ничего не поймет. Мир, в котором я живу, так же далек от нее, от сыновей, как созвездие Альфа Центавра. Здесь другой язык, другая терминология. Что она может понять, глядя в том Шекспира, написанный на английском, если она не знает английского? И я начинаю испытывать ненависть к листу бумаги. Мне казалось, что он — друг и сможет донесли за двадцать тысяч километров драму, разыгравшуюся с нами, тревогу, которую внушал поврежденный элерон, как «бомба» замедленного действия, способная рвануть в любой момент, а вместо этого: «Сегодня опять ходили на "Восток"»... И я рву лист бумаги, который, по большому счету, ни в чем не виноват. Для того, чтобы дома поняли, что мы пережили, жене надо было бы полетать в Арктике, освоить сотни технических терминов, за каждым из них стоит деталь, агрегат, элемент машины, состояние погоды, ВПП, которые в определенных условиях бросают вызов экипажу, мне, ставя на карту нашу жизнь. И я начинаю понимать водителей тягачей, месяцами пробивающих дорогу в Антарктиде, дизелистов, радистов, метеорологов, авиатехников... У каждого из нас свой мир, о котором дома не знают. И поэтому все мы мучаемся, пытаясь донести до своих любимых то, чем мы живем, не понимая, что это почти невозможно. «Сегодня опять ходили на "Восток"»... Вот если бы я написал об обрубленном крыле Потемкину, Андрианову, Тютюнникову, нашим ребятам-авиаторам, у них бы это вызвало жгучий интерес. То, что с нами случилось, могло в будущем им пригодиться, и потому мой опыт в их глазах приобретал бы смысл. А какой смысл случившееся имеет для
жены? Никакого. Но ведь у меня ничего другого, кроме работы и специфичного языка, нет. Как же я смогу заставить ее мной гордиться и тем самым удержать ее любовь? Я нем, она меня не слышит. Думаю о тех сотнях влюбленных, которые потеряли друг друга лишь потому, что из Антарктиды шли письма с ничего не значащими: «У меня все хорошо»... Какой дурак придумал эту фразу, чтобы спрятать за нее то, чем мы живем? Кто сказал, что не надо волновать тех, кого мы любим? Но если их не волновать, что им достается, кроме того, что они считают нашим равнодушием, в какие бы благородные обертки мы не заворачивали вот это: «У меня все хорошо...»?
Им из дома писать нам проще. Потому что их язык мы знаем, слышим голос, интонацию. Их терминология — наша. «Ты знаешь, вчера сын сделал первые шаги». «Я ходила в театр», — или что-либо в этом роде: виделась с друзьями, приходили гости. Все ясно, понятно, чисто, дорого и так волнует. Вот почему здесь перечитывают друг другу хорошие письма из дома и почти никогда те, что отсылают отсюда.
И все же, надежда, что удастся достучаться до тех, кто на Большой земле, не покидает многих из нас до последнего. В день, когда корабль уходил домой, я видел, как дописывали письма на колене, на спине у друга, прижав лист бумаги к крышке какого-то ящика... Вот уже густым басом проревел прощальный гудок, а кто-то сует письма тем, кто последним летит к кораблю, стоящему в двадцати километрах от «Мирного»...
Корабль далеко, но вот мы с берега смотрим, как он начинает отход от льдины. Прощальные крики, летит вверх все, что можно подбросить, в сером небе рассыпаются ракеты, и если бы в «Мирном» или на корабле нашелся хотя бы один человек, которого не захватили те же чувства, что и всех участников этих проводов и отплытия, он справедливо пришел бы к выводу, что присутствует при массовом помешательстве.
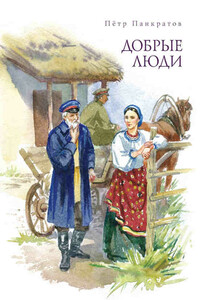
В книге П. Панкратова «Добрые люди» правдиво описана жизнь донского казачества во время гражданской войны, расказачивания и коллективизации.
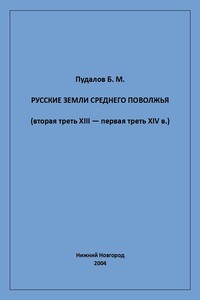
В книге сотрудника Нижегородской архивной службы Б.М. Пудалова, кандидата филологических наук и специалиста по древнерусским рукописям, рассматриваются различные аспекты истории русских земель Среднего Поволжья во второй трети XIII — первой трети XIV в. Автор на основе сравнительно-текстологического анализа сообщений древнерусских летописей и с учетом результатов археологических исследований реконструирует события политической истории Городецко-Нижегородского края, делает выводы об административном статусе и системе управления регионом, а также рассматривает спорные проблемы генеалогии Суздальского княжеского дома, владевшего Нижегородским княжеством в XIV в. Книга адресована научным работникам, преподавателям, архивистам, студентам-историкам и филологам, а также всем интересующимся средневековой историей России и Нижегородского края.

В настоящей книге дается материал об отношениях между папством и Русью на протяжении пяти столетий — с начала распространения христианства на Руси до второй половины XV века.

В книге финского историка А. Юнтунена в деталях представлена история одной из самых мощных морских крепостей Европы. Построенная в середине XVIII в. шведами как «Шведская крепость» (Свеаборг) на островах Финского залива, крепость изначально являлась и фортификационным сооружением, и базой шведского флота. В результате Русско-шведской войны 1808–1809 гг. Свеаборг перешел к Российской империи. С тех пор и до начала 1918 г. забота о развитии крепости, ее боеспособности и стратегическом предназначении была одной из важнейших задач России.

Обзор русской истории написан не профессиональным историком, а писательницей Ниной Матвеевной Соротокиной (автором известной серии приключенческих исторических романов «Гардемарины»). Обзор русской истории охватывает период с VI века по 1918 год и написан в увлекательной манере. Авторский взгляд на ключевые моменты русской истории не всегда согласуется с концепцией других историков. Книга предназначена для широкого круга читателей.
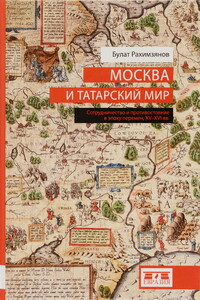
В числе государств, входивших в состав Золотой Орды был «Русский улус» — совокупность княжеств Северо-Восточной Руси, покоренных в 1237–1241 гг. войсками правителя Бату. Из числа этих русских княжеств постепенно выделяется Московское великое княжество. Оно выходит на ведущие позиции в контактах с «татарами». Работа рассматривает связи между Москвой и татарскими государствами, образовавшимися после распада Золотой Орды (Большой Ордой и ее преемником Астраханским ханством, Крымским, Казанским, Сибирским, Касимовским ханствами, Ногайской Ордой), в ХѴ-ХѴІ вв.