Русское Старообрядчество. Духовные движения семнадцатого века - [2]
Такую же позицию в объяснении религиозных причин раскола сначала занял и молодой казанский историк Аф. Прок. Щапов (1831–1876), который в своей магистерской диссертации «Русский раскол старообрядчества», защищенной им в 1858 году, называл движение сторонников старой веры «окаменевшим осколком древней Руси». Все же, несмотря на свой ранний традиционно–отрицательный взгляд на старообрядцев, Щапов внес уже и в этом труде нечто новое, пытаясь вскрыть социальные причины, толкнувшие в раскол широкие массы русского народа. Через четыре года, пользуясь перевезенной во время Крымской войны в Казань богатейшей материалами по расколу библиотекой Соловецкого монастыря, Щапов пересмотрел свои взгляды. В новом труде «Земство и Раскол», вышедшем в Отечественных Записках в 1862 году, он уже писал, что в старообрядчестве была «своеобразная жизнь умственная и нравственная» и что раскол вырос на почве «земской розни», в результате «скорби и тяготы от тягла государевой казны, от злоупотребления государевых чиновников, писцов и дозорщиков, от насилия бояр». В его глазах старообрядчество было прежде всего: «могучей, страшной общинной оппозицией податного земства, массы народной против всего государственного строя — церковного и гражданского»[2]. Новый тезис А. П. Щапова, что старообрядчество было прежде всего творческим и свободолюбивым оппозиционным движением против засилия государства и церковных властей, был с энтузиазмом подхвачен рускими народниками, которые, видя в этих защитниках древлего православия прежде всего возможных союзников в своей революционной борьбе с русской монархией, стали в свою очередь исследовать старообрядчество и искать сближения с ним.
Сенсационное «открытие» А. Щапова, что движение борцов за старую веру будто бы было в основном борьбой против злоупотреблений правительства и иерархии, быстро нашло отклик и за границей. Там старообрядцами заинтересовались русские эмигранты в Лондоне во главе с патриархом русского социализма А. Герценом, с Н. Огаревым и с их довольно случайным другом, новым эмигрантом, Вас. Кельсиевым. Было решено вовлечь этих старомодных, но, казалось, многообещающих русских «диссидентов» в политическую борьбу с самодержавием. Герцен дал деньги, Огарев — свою редакционную опытность, Кельсиев — свой энтузиазм. В результате, уже в том же 1862 году в Лондоне начал выходить особый журнал для старообрядческих читателей, многозначительно озаглавленный этой эмигрантской кучкой — «Общее Дело»[3]. Для того чтобы прочнее вовлечь старообрядчество в свою революционную работу, А. Герцен даже намеривался создать в Лондоне особый старообрядческий церковный центр, построить там же старообрядческий собор, старостой которого он сам не прочь был стать. Правда, из этих лондонских церковных проектов ничего не получилось, но зато Герценовский кружок вступил в сношения с старообрядцами казаками в Турции, так называевыми некрасовцами, которых лондонская группа пыталась использовать для связей с революционным движением и старообрядцами России. Надо отметить, что в этом отношении лондонские эмигранты не были изобретателями новых путей и что уже во время Крымской войны агенты вождя польской эмиграции кн. Адама Чарторыйского вербовали живших в Турции казаков старообрядцев и в особые военные отряды, и в диверсионные группы, с помощью которых они собирались поднять восстание на Дону, Урале, Кубани и среди казачьих частей, воевавших на Кавказе.
Несмотря на провал лондонской затейки Герцена, Кельсиева и Огарева, народники продолжали интересоваться старообрядчеством и немало сделали для популяризации изучения этого, тогда еще очень мало известного русским ученым и читателям, движения. Вслед за Щаповым и Кельсиевым старообрядцами занимались такие представители народничества, как Н. А. Аристов, Я. В. Абрамов, Ф. Фармаковский, В. В. Андреев, А. С. Пругавин, И. Каблиц (псевдоним Юзов) и многие другие. К ним же можно до некоторой степени причислить и известного историка Н. М. Костомарова, который так же, как и А. Щапов, принадлежал к земскому областническому направлению русской историографии и стремился изучать не только историю государства, но и историю самого народа. Ознакомившись с работами самих старообрядцев, Н. М. Костомаров в обстоятельном очерке «История раскола у раскольников»[4] писал, что «раскольники» очень отличались своим духовным и умственным складом от представителей русской средневековой культуры и церкви: «в старой Руси господствовало отсутствие мысли и невозмутимое подчинение авторитету владетельствующих… раскол любил мыслить и спорить». Несмотря на то что почтенный историк был совсем несправедлив в своем осуждении Древней Руси, — ведь недаром современный исследователь древней русской литературы Д. И. Чижевский считает четырнадцатый и шестнадцатый века веками споров и разногласий, — тем не менее Костомаров был прав, говоря о старообрядчестве как о «крупном явлении умственного прогресса», которое в течение веков отличалось своей любовью к прениям и исканием ответа на свои духовные запросы.
Хотя историки либерального, по преимуществу народнического, направления сделали немало для раскрытия идеологии и социальной жизни «раскола», все же, как это ни странно, главную роль в выяснении сущности раннего старообрядчества и причин кризиса в русской церкви семнадцатого века сыграл весьма реакционный противник, вернее даже заклятый враг «раскольников», Николай Иванович Субботин, профессор Московской Духовной Академии, который в 1875 году начал издавать теперь совершенно незаменимые для истории старообрядчества «Материалы для истории раскола за первое время его существования». В девяти томах своих «Материалов», а затем в своем периодическом издании «Братское Слово», в бесчисленных изданиях старообрядческих источников и в своих монографиях Н. И. Субботин собрал бесконечное количество документов, писем, биографий и «житий», полемических трактатов и исторических работ, написанных самими «раскольниками». В первом же томе своих «Материалов» он опубликовал «Житие протопопа Ивана Неронова», одного из виднейших противников Никона, и «Записку» о его жизни. Из этих сочинений, написанных еще в 1650–60–ых годах, было видно, насколько необдуманны и неосторожны были поступки патриарха; кроме того в них ярко вырисовывался облик самого Неронова, который, задолго до патриаршества Никона, вместе с другими священниками, начал бороться против летаргии и косности большинства епископата. Раскрытие роли этого кружка духовенства, т. н. боголюбцев, пытавшихся вдохнуть дух новой, подлинно религиозной жизни в русскую церковь, было поворотным событием в изучении истории раскола русского православия.

Написанная живым, доступным языком, книга известного арабиста, исламоведа содержит изложение коранических легенд и преданий, анализ их истоков, их бытования в доисламской Аравии и в странах арабо-мусульманской культуры. В оформлении использованы средневековые арабские рукописи.
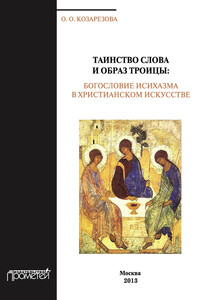
В монографии рассматривается догматический аспект иконографии Троицы, Христа-Спасителя. Раскрывается символика православного храма, показывается тесная связь православной иконы с мистикой исихазма. Книга адресована педагогам, религиоведам, искусствоведам, студентам-историкам, культурологам, филологам.
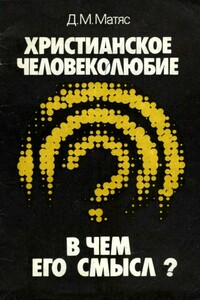
«Возлюби ближнего твоего», «Все у вас да будет с любовью», «Любите врагов ваших» — эти и другие поучения регулярно раздаются с амвонов всех христианских церквей, с проповеднических кафедр сектантских общин. Они преподносятся верующим как выражение особого гуманизма христианства. Раскрывая псевдогуманизм этих заповедей, автор книги на большом фактическом материале показывает превосходство марксистско-ленинского гуманизма, реально воплощающегося в социалистическом обществе.Для массового читателя — верующих и неверующих.
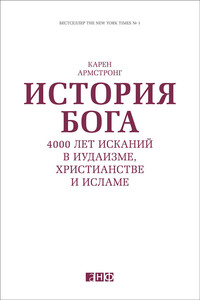
Откуда в нашем восприятии появилась сама идея единого Бога?Как менялись представления человека о Боге?Какими чертами наделили Его три мировые религии единобожия – иудаизм, христианство и ислам?Какое влияние оказали эти три религии друг на друга?Известный историк религии, англичанка Карен Армстронг наделена редкостными достоинствами: завидной ученостью и блистательным даром говорить просто о сложном. Она сотворила настоящее чудо: охватила в одной книге всю историю единобожия – от Авраама до наших дней, от античной философии, средневекового мистицизма, духовных исканий Возрождения и Реформации вплоть до скептицизма современной эпохи.3-е издание.
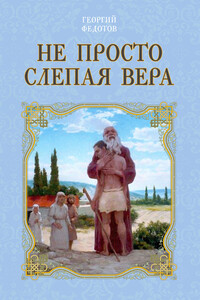
В книге исследуются вопросы вероисповедания евреев, христиан и мусульман, как наиболее распространённые и значимые вероучения в разрешении духовного кризиса современного мира. И немаловажное значение здесь обретает истина, что все духовные существа, в том числе и человек до грехопадения, знали, что Бог – Един есть.Автор Г. Федотов полагает, что эта работа поможет многим – при столь возросшем насилии и ненависти между людьми – разрешить возникающие у них вопросы относительно победы добра над злом. Ибо Господь, как утверждается в вероучениях, смотрит на сердце человека и его дела жизни, а не на то, к какой религиозной конфессии этот верующий принадлежит!

Предлагаемый вниманию читателей энциклопедический словарь является первым пособием на русском языке, в котором была сделана попытка разъяснения большинства основных понятий и терминов, которые используются в исламской традиции. Кроме того, в данном труде содержится достаточно подробная информация о различных правовых и вероучительных школах в Исламе, основах исламского вероучения, доктрине единобожия, содержится большой материал по различным мусульманским сектам. Здесь собраны также биографические данные о наиболее известных сподвижниках пророка Мухаммада и их последователях, об известных правоведах, мыслителях, толкователях Корана, каламистах.