Русская религиозная философия - [4]
Наступает XIX век. Болезненный кризис потрясает российскую цивилизацию, вернее сказать, элиту цивилизации, предтеч российской интеллигенции (тогда это в основном были люди аристократического слоя). Они чувствуют, что официальная государственная Церковь, которая при Петре I была порабощена, прикована к государственному механизму, их не удовлетворяет. Почему? Потому что свободолюбие уже пустило глубокие корни в народе, и это свободолюбие воплотилось в духе мыслящих людей. Новиков, Радищев (конец XVIII в.) уже уязвлены страданиями человечества. И они начинают искать внецерковные пути философии, мистики: ищут их в оккультизме, в теософии, в масонстве, в юродстве… Это были напряженные искания. Вы помните, в «Войне и мире» есть сцена, когда Пьер Безухов вступает в масонскую ложу. Это не случайно у Толстого — Пьер был одним из многих, кто искал внецерковных путей. Можно понять этих людей? Можно, потому что Церковь как институт находилась в тяжелейшем состоянии, опутанная со всех сторон цепями государственных служб. И это недоверие к ней стало огромной трагедией, внесло раскол между церковной традицией и зарождающейся интеллигенцией.
В начале XIX в. начинается поиск контактов с философскими течениями Запада. Кто повлиял на русскую философию XIX в.? Прежде всего, Шеллинг. В течение всего столетия влияние его было огромным — и прямым, и косвенным. Шеллинга лично знал Петр Яковлевич Чаадаев, с Шеллингом был дружен Тютчев; на Шеллинге основывался Владимир Соловьев, из Шеллинга, возможно, исходил Булгаков.
Было и другое влияние — влияние Гегеля, — может быть, менее положительное (возможно, потому, что Гегеля воспринимали очень искаженно — впрочем, его никто никогда не мог понять; Гегель говорил так: «Меня понял только один мой ученик, и тот неправильно»). Когда Гегелю говорили: «Есть факты, которые противоречат вашей теории», — он отвечал: «Тем хуже для фактов». Это был своеобразный человек, своеобразный мыслитель, и его влияние на русскую мысль было, пожалуй, скорее отрицательным. В нем находили то, чего, казалось, в нем не было. Белинский очень увлекался Гегелем, не прочтя ни одной строчки (ведь Гегеля не переводили на русский язык в прошлом веке, а Белинский немецкого языка не знал).
В первой половине XIX в. зарождаются два течения, представителей которых условно принято называть славянофилами и западниками. Вот здесь мы уже можем сказать, что начинает себя осознавать настоящая религиозная мысль. Ранние славянофилы (Хомяков, Киреевский) выступают против уклона в рационализм и говорят о мистических корнях философии. При этом они считают, что такое постижение истины — интуитивное, глубинное, нерациональное — возможно только в славянской культуре. Они создают особую философию славянского народа, ищут ее в древности. Хомяков пытался набросать философию истории в этом ключе, но не завершил свой труд. Напротив, западники, справедливо считая, что Россия — часть Европы, фактически отрицают все предшествующее им и ориентируются на прогресс, просвещение, науку, технику. Белинский, который был типичным западником, как рассказывают, в выходной плелся на площадь (которую мы теперь называем Комсомольской) и смотрел на «великое творение века» — там строили Николаевский вокзал (нынешний Ленинградский). В этой стройке ему чудилось, так сказать, дыхание грядущего индустриального века, и он, бедный, наслаждался этим зрелищем.
Алексей Степанович Хомяков
Автопортрет
Западники были соблазнены утопией прогресса. Среди них был Герцен, романтик и утопист, который глубоко разочаровался в своей собственной утопии. Дальше скептицизма и Фейербаха он не пошел. Но в какой‑то момент он вдруг понял, что свободная личность в этой утопии тонет, что социальный прогресс — это Молох, который пожирает своих детей, и конца этому движению не видно. И в конце концов он говорит: а почему глупо верить в Бога? Почему тогда надо верить в человека? Почему надо верить в прогресс? И он, великий утопист и роман–тик, потерпел тяжелое нравственное поражение. У него был блестящий философский дар, но философской системы он не создал, он собрал обломки материалистических доктрин, и на этом все кончилось.
Кто соединил эти два пути? Один из величайших мыслителей России первой половины XIX в. Петр Яковлевич Чаадаев. Когда он начал писать свою книгу «Философические письма», первая статья (или первая глава, или первое письмо) была опубликована в журнале. Вы, наверное, знаете, какой это вызвало скандал: журнал был закрыт, редактор сослан, а сам Чаадаев объявлен сумасшедшим, только что в психушку его не отправили. Почему так получилось? Этой главой он хотел разбудить сознание своих читателей! Он написал горькие, суровые слова о застое, который охватил общество.
Чаадаев был великим патриотом. Он не считал, что Запад есть абсолютный идеал, но и не считал, как некоторые славянофилы, что надо вернуться в допетровскую эпоху. Чаадаев как раз стоял на принципе сбалансированности, гармонии: он говорил, что страна, находящаяся между Азией и Западной Европой, между Востоком и Западом, способна соединить в себе два пути познания, и не только познания, но и осуществления идеала на земле. К своей книге он написал эпиграф из молитвы «Отче наш»:
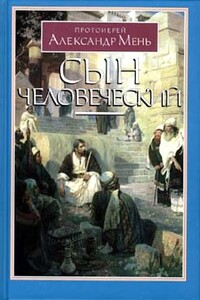
Главная книга о. Александра Меня — рассказ о земной жизни Иисуса Христа.Книга стремится ясно и правдиво воссоздать евангельскую эпоху, донести до читателя образ Иисуса из Назарета таким, как Его видели современники. Жизнеописание Христа строится на основе Евангелий, лучших комментариев к ним, а также других литературных источников, указанных в библиографии (675 наименований).Книга снабжена богатыми приложениями, которые помогут глубже познакомиться с евангельской историей и историей ее исследования.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
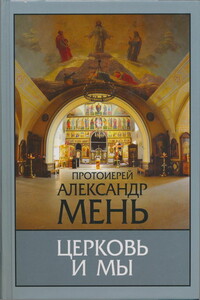
Сборник составлен из домашних бесед прот. Александра Меня, которые проходили в домах его прихожан в период с 1982 по 1989 гг. В них отец Александр размышляет о тайне и силе Церкви и ее значении в жизни каждого человека. Беседы публикуются впервые.

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
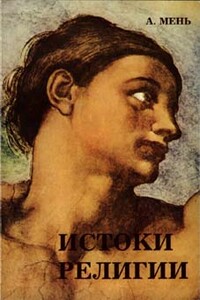
Творческое наследие Александра Меня поражает своей многогранностью и широтой научного кругозора. Когда окидываешь взглядом проделанную им работу в области библиологии, религиоведения, истории культуры, литературы, то удивляешься громадному объему его труда. Видный деятель Русской Православной церкви, библеист, богослов, проповедник, он за свою недолгую жизнь сделал столько, что было бы по силам только целому коллективу.Его глубокие теоретические исследования сочетались с активной проповеднической деятельностью.
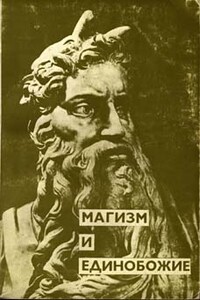
Что было раньше: язычество или вера в Единого Бога? Почему во все времена были связаны между собой нравственность и Единобожие? Какими путями выходит человечество из рабства Магизма к свободному Богопознанию? — На эти и многие другие злободневные и вечные вопросы отвечает предлагаемая читателю вторая книга из серии «История религии. В поисках Пути, Истины и Жизни». Грандиозная панорама первобытных религий, которую рисует на ее страницах Александр Мень (1935—1990), еще раз убеждает, что у истоков материального крушения всегда стоит духовное обнищание.

В третьем томе рассматривается диалектика природных процессов и ее отражение в современном естествознании, анализируются различные формы движения материи, единство и многообразие связей природного мира, уровни его детерминации и организации и их критерии. Раскрывается процесс отображения объективных законов диалектики средствами и методами конкретных наук (математики, физики, химии, геологии, астрономии, кибернетики, биологии, генетики, физиологии, медицины, социологии). Рассматривая проблему становления человека и его сознания, авторы непосредственно подводят читателя к диалектике социальных процессов.

А. Ф. Лосев "Античный космос и современная наука"Исходник электронной версии:А.Ф.Лосев - [Соч. в 9-и томах, т.1] Бытие - Имя - Космос. Издательство «Мысль». Москва 1993 (сохранено только предисловие, работа "Античный космос и современная наука", примечания и комментарии, связанные с предисловием и означенной работой). [Изображение, использованное в обложке и как иллюстрация в начале текста "Античного космоса..." не имеет отношения к изданию 1993 г. Как очевидно из самого изображения это фотография первого издания книги с дарственной надписью Лосева Шпету].

К 200-летию «Науки логики» Г.В.Ф. Гегеля (1812 – 2012)Первый перевод «Науки логики» на русский язык выполнил Николай Григорьевич Дебольский (1842 – 1918). Этот перевод издавался дважды:1916 г.: Петроград, Типография М.М. Стасюлевича (в 3-х томах – по числу книг в произведении);1929 г.: Москва, Издание профкома слушателей института красной профессуры, Перепечатано на правах рукописи (в 2-х томах – по числу частей в произведении).Издание 1929 г. в новой орфографии полностью воспроизводит текст издания 1916 г., включая разбивку текста на страницы и их нумерацию (поэтому в первом томе второго издания имеется двойная пагинация – своя на каждую книгу)

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.

Автор книги — немецкий врач — обращается к личности Парацельса, врача, философа, алхимика, мистика. В эпоху Реформации, когда религия, литература, наука оказались скованными цепями догматизма, ханжества и лицемерия, Парацельс совершил революцию в духовной жизни западной цивилизации.Он не просто будоражил общество, выводил его из средневековой спячки своими речами, своим учением, всем своим образом жизни. Весьма велико и его литературное наследие. Философия, медицина, пневматология (учение о духах), космология, антропология, алхимия, астрология, магия — вот далеко не полный перечень тем его трудов.Автор много цитирует самого Парацельса, и оттого голос этого удивительного человека как бы звучит со страниц книги, придает ей жизненность и подлинность.