Русская литература: страсть и власть - [115]
И поэтому студент Великопольский, в чьей фамилии так много любви к огромным пустым пространствам (а Чехов обожает пространство, он ненавидит дом, ненавидит запертость в четырех стенах), этот студент чувствует такой же простор и во времени, как в окружающей его бесконечной ночи. Он чувствует, что ночь, в которую Петр предал Христа, была такая же ночь, точно такая же холодная ночь с узкой, страшной ледяной зарей, и что все жизни в одном, все жизни в этом одном потоке. Вот это всеобъемлющее чувство можно назвать религиозным. И, как ни ужасно это звучит, – как бесконечно мала религиозность по сравнению с неохватностью этого чувства.
В одном хорошем эссе одного молодого критика Алисы Абитовой есть замечательные слова: «Труднее всего сказать слова “я тебя люблю”, “прости меня” и “помоги мне”». Подумавши, мы понимаем, что это и есть три модели, три фразы, обращаемые нами обычно к Богу. Но, в сущности, чеховская религиозность – это всё, что за и поверх этих «прости», «спаси», «люблю тебя». Поверх этих простых и прагматических просьб. Чеховская религиозность – это то, что бывает поверх обычного обращения к Богу или поверх обычного атеизма. То, что словами, как правило, не выражается.
И здесь приходится вспомнить, вероятно, два самых религиозных произведения Чехова, в которых эта религиозность, если уж употреблять это слово, так откровенна.
Первое – это, конечно, чеховский Иона в «Тоске». Пророк во чреве китовом, погружённый в тоску, в страшное чрево мира, в котором никому, кроме лошади, ничего нельзя рассказать о том, что сын помер, что жизнь глуха и безнадежна, что холод страшный кругом. Никому ничего нельзя сказать.
И вторая вещь, еще более откровенная, – письмо, в котором Ванька Жуков обращает свою молитву на деревню дедушке. Бог – это и есть дедушка на деревне, тот идеальный мир, которого не бывает, где возле печки ходит Вьюн и вертит хвостом. И ничего нельзя получить в ответ, потому что это письмо всегда обращено на деревню.
как сформулировал Бродский сто лет спустя. Это ощущение письма, отправляемого на деревню дедушке, и есть, наверное, самый точный образ молитвы, который можно себе представить. Это и есть то музыкальное чувство мира, когда ты не просишь ни о чем конкретном, когда ты не можешь ни о чем попросить, потому что, по большому счету, все безнадежно, нельзя ничем конкретным этого исправить. А просить можно только об одном: «Милый дедушка, забери меня отсюда». И мы можем не сомневаться, что уж эта-то просьба будет услышана.
И еще, пожалуй, один из самых печальных чеховских парадоксов: у Чехова отсутствует начисто тема дома. Есть рассказ «Дома», где рисует солдата мальчик, растущий без матери, с несчастным, не знающим, что с ним делать, отцом. Есть рассказ «Дом с мезонином». А больше нет ничего. Дом отсутствует. Дом – всегда плен, всегда ужас. Достаточно вспомнить страшные дома, которые строит отец героя, архитектор, в «Моей жизни».
«Моя жизнь» – последняя попытка расчета с толстовством, с идеями обращения. Толстой хотел написать второй том «Воскресения», и Чехов всегда говорил и Меньшикову об этом писал, что это гениальная повесть (он называл «Воскресение» повестью), но плохо законченная. Уходить в Евангелие, говорил Чехов, – это все равно что делить арестантов на разряды: вот их делят на двенадцать, а почему не на пять? Если ты ссылаешься на Евангелие, сначала докажи, что оно истинно, почему надо ему верить. А если ты не можешь этого доказать, то любая попытка уйти от ответа рассматривается как просто апелляция к старшему. На самом деле это не выход.
Сам Толстой чувствовал недостаточность, половинчатость своего финала, потому и мечтал написать второй том «Воскресения». Он и в 1903 году об этом мечтал, и в 1907-м, и в 1910-м перед уходом мечтает написать второй том «Коневской повести» (первоначальное название «Воскресения»). Но писать ее не было прямой необходимости, потому что Чехов уже написал «Мою жизнь» – историю человека, который решил опроститься, школы строить, крыши красить, и что из этого получилось, какой ад, какое недоверие к себе, какое убийство лучших чувств.
Но в «Моей жизни» есть еще проходной персонаж, который появляется периодически для того, чтобы подчеркнуть общую бездарность существования, и исчезает потом. Это отец главного героя, единственный архитектор в городе, изрекающий пошлости: «Взгляни на небо! <…> Как ничтожен человек в сравнении со вселенной!» – и говорит это так, как будто очень радуется своей ничтожности. «Что это за бездарный человек!» – тут же добавляет любящий сын. Потому что этот человек производит бесконечно отвратительные дома, к чему в городе уже привыкли и называют это его стилем. Начинает он с того, что планирует залу, гостиную, а дальше к ним начинает пристраивать другие постройки. Единого замысла у него нет, и в результате все построенные им дома – жалкие, низкие, косые коридорчики, в которых невозможно существовать.
Лучшего портрета любого русского мировоззрения, любой русской философской системы в то время и придумать нельзя, потому что «архитектор» по Чехову, вообще «дом» по Чехову – это образ жизни, некая жизнеобразующая стратегия. И вся эта жизнеобразующая стратегия всегда строится вокруг одной маленькой мысли, довольно убогой, а к ней прилепляются разные адаптивные пристройки, которые позволяют ей как-то зацепиться за реальность. А сам герой живет вообще в хозяйственной постройке – в сарае, потому что жить в этих домах не позволяют ему ни социальные, ни нравственные чувства
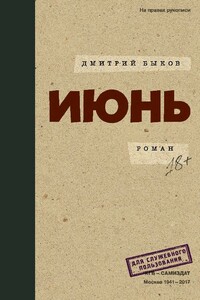
Новый роман Дмитрия Быкова — как всегда, яркий эксперимент. Три разные истории объединены временем и местом. Конец тридцатых и середина 1941-го. Студенты ИФЛИ, возвращение из эмиграции, безумный филолог, который решил, что нашел способ влиять текстом на главные решения в стране. В воздухе разлито предчувствие войны, которую и боятся, и торопят герои романа. Им кажется, она разрубит все узлы…

«Истребитель» – роман о советских летчиках, «соколах Сталина». Они пересекали Северный полюс, торили воздушные тропы в Америку. Их жизнь – метафора преодоления во имя высшей цели, доверия народа и вождя. Дмитрий Быков попытался заглянуть по ту сторону идеологии, понять, что за сила управляла советской историей. Слово «истребитель» в романе – многозначное. В тридцатые годы в СССР каждый представитель «новой нации» одновременно мог быть и истребителем, и истребляемым – в зависимости от обстоятельств. Многие сюжетные повороты романа, рассказывающие о подвигах в небе и подковерных сражениях в инстанциях, хорошо иллюстрируют эту главу нашей истории.

Дмитрий Быков снова удивляет читателей: он написал авантюрный роман, взяв за основу событие, казалось бы, «академическое» — реформу русской орфографии в 1918 году. Роман весь пронизан литературной игрой и одновременно очень серьезен; в нем кипят страсти и ставятся «проклятые вопросы»; действие происходит то в Петрограде, то в Крыму сразу после революции или… сейчас? Словом, «Орфография» — веселое и грустное повествование о злоключениях русской интеллигенции в XX столетии…Номинант шорт-листа Российской национальной литературной премии «Национальный Бестселлер» 2003 года.

Орден куртуазных маньеристов создан в конце 1988 года Великим Магистром Вадимом Степанцевым, Великим Приором Андреем Добрыниным, Командором Дмитрием Быковым (вышел из Ордена в 1992 году), Архикардиналом Виктором Пеленягрэ (исключён в 2001 году по обвинению в плагиате), Великим Канцлером Александром Севастьяновым. Позднее в состав Ордена вошли Александр Скиба, Александр Тенишев, Александр Вулых. Согласно манифесту Ордена, «куртуазный маньеризм ставит своей целью выразить торжествующий гедонизм в изощрённейших образцах словесности» с тем, чтобы искусство поэзии было «возведено до высот восхитительной светской болтовни, каковой она была в салонах времён царствования Людовика-Солнце и позже, вплоть до печально знаменитой эпохи «вдовы» Робеспьера».
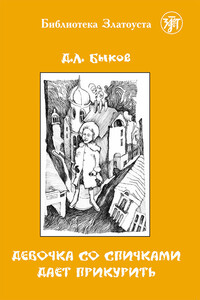
Неадаптированный рассказ популярного автора (более 3000 слов, с опорой на лексический минимум 2-го сертификационного уровня (В2)). Лексические и страноведческие комментарии, тестовые задания, ключи, словарь, иллюстрации.
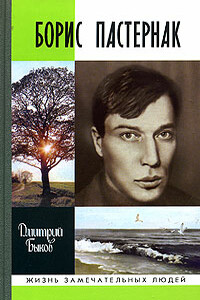
Эта книга — о жизни, творчестве — и чудотворстве — одного из крупнейших русских поэтов XX пека Бориса Пастернака; объяснение в любви к герою и миру его поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в день путь своего героя, он пытается восстановить для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным событиям жизни Пастернака, социально-историческим катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых немыслимо бытование всякого талантливого человека.
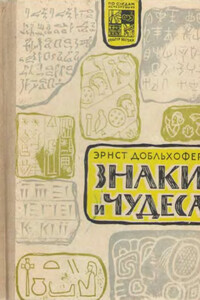
Книга рассказывает о том, как были дешифрованы забытые письмена и языки. В основной части своей книги Э. Добльхофер обстоятельно излагает процесс дешифровки древних письменных систем Египта, Ирана, Южного Двуречья, Малой Азии, Угарита, Библа, Кипра, крито-микенского линейного письма и древнетюркской рунической письменности. Таким образом, здесь рассмотрены дешифровки почти всех забытых в течение веков письменных систем древности.
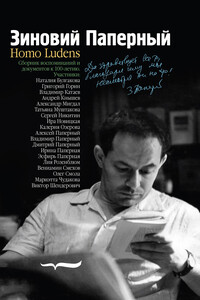
Сборник посвящен Зиновию Паперному (1919–1996), известному литературоведу, автору популярных книг о В. Маяковском, А. Чехове, М. Светлове. Литературной Москве 1950-70-х годов он был известен скорее как автор пародий, сатирических стихов и песен, распространяемых в самиздате. Уникальное чувство юмора делало Паперного желанным гостем дружеских застолий, где его точные и язвительные остроты создавали атмосферу свободомыслия. Это же чувство юмора в конце концов привело к конфликту с властью, он был исключен из партии, и ему грозило увольнение с работы, к счастью, не состоявшееся – эта история подробно рассказана в комментариях его сына.

В монографии рассматриваются рецепции буддизма в русской литературе конца XIX – начала XX в. – отражение в ней буддийских идей, мотивов, реминисценций. Выбор писателей и поэтов для данного анализа определен тем, насколько ярко выражены эти рецепции в их творчестве, связаны с его общей канвой, художественными концепциями, миропониманием. В данном ракурсе анализируется творчество Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, К. Д. Бальмонта, Д. С. Мамина-Сибиряка, И. Ф. Анненского, М. А. Волошина, В. Хлебникова. Книга адресована историкам и философам культуры, религиоведам, культурологам, филологам.

В книге подробно анализируется процесс становления новейшей китайской литературы, а также развития ее направлений и жанров – от «ста школ» и «культурной революции» до неореализма и феминистского творчества. Значительное внимание Чэнь Сяомин уделяет проблемам периодизации, связи литературы и исторического процесса, а также рассуждениям о сути самого термина «новейшая литература» и разграничении между ней и литературой «современной». Эти и другие вопросы рассматриваются автором на примере наиболее выдающихся произведений, авторов и школ второй половины XX века.
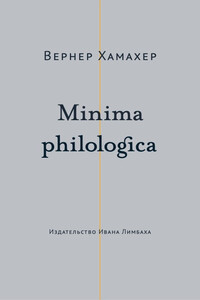
Вернер Хамахер (1948–2017) – один из известнейших философов и филологов Германии, основатель Института сравнительного литературоведения в Университете имени Гете во Франкфурте-на-Майне. Его часто относят к кругу таких мыслителей, как Жак Деррида, Жан-Люк Нанси и Джорджо Агамбен. Вернер Хамахер – самый значимый постструктуралистский философ, когда-либо писавший по-немецки. Кроме того, он – формообразующий автор в американской и немецкой германистике и философии культуры; ему принадлежат широко известные и проницательные комментарии к текстам Вальтера Беньямина и влиятельные работы о Канте, Гегеле, Клейсте, Целане и других.

Эта книга – не очередной учебник английского языка, а подробное руководство, которое доступным языком объясняет начинающему, как выучить английский язык. Вы узнаете, как все подходы к изучению языка можно выразить в одной формуле, что такое трудный и легкий способы учить язык, почему ваш английский не может быть «нулевым» и многое другое. Специально для книги автор создал сайт-приложение Langformula.ru с обзорами обучающих программ, словарем с 3000 английских слов и другими полезными материалами.

Знаменитая лекция Быкова, всколыхнувшая общественное мнение. «Аркадий Гайдар – человек, который во многих отношениях придумал тот облик Советской власти, который мы знаем. Не кровавый облик, не грозный, а добрый, отеческий, заботливый. Я не говорю уже о том, что Гайдар действительно великий стилист, замечательный человек и, пожалуй, одна из самых притягательных фигур во всей советской литературе».
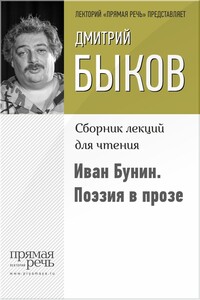
«Как Бунин умудряется сопрячь прозу и стихи, всякая ли тема выдерживает этот жанр, как построен поздний Бунин и о чем он…Вспоминая любимые тексты, которые были для нас примером небывалой эротической откровенности»…

«Нам, скромным школьным учителям, гораздо приличнее и привычнее аудитория класса для разговора о русской классике, и вообще, честно вам сказать, собираясь сюда и узнав, что это Большой зал, а не Малый, я несколько заробел. Но тут же по привычке утешился цитатой из Маяковского: «Хер цена этому дому Герцена» – и понял, что все не так страшно. Вообще удивительна эта способность Маяковского какими-то цитатами, словами, приемами по-прежнему утешать страждущее человечество. При том, что, казалось бы, эпоха Маяковского ушла безвозвратно, сам он большинством современников, а уж тем более, потомков, благополучно похоронен, и даже главным аргументом против любых социальных преобразований стало его самоубийство, которое сделалось если не главным фактом его биографии, то главным его произведением…».
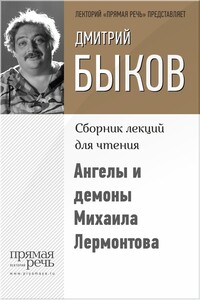
Смерть Лермонтова – одна из главных загадок русской литературы. Дмитрий Быков излагает свою версию причины дуэли, объясняет самоубийственную стратегию Лермонтова и рассказывает, как ангельские звуки его поэзии сочетались с тем адом, который он всегда носил в душе.